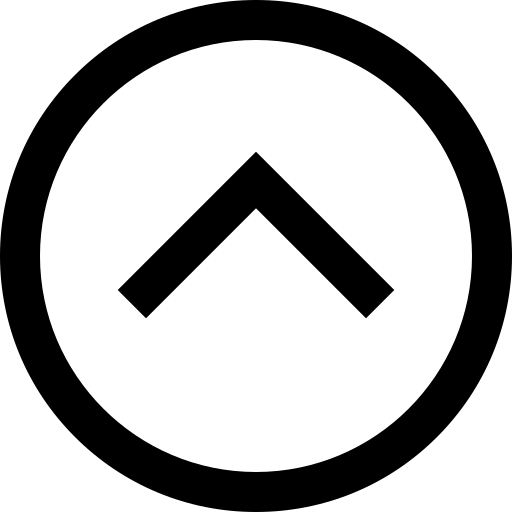Евангелие или закон
Эллет Ваггонер
Д. Батлер
Эта книга затрагивает историю вопроса «закона» в послании к Галатам, подробно рассматривая две точки зрения
От издателей
«Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений, до времени пришествия семени...» (Гал.3:19)
Перед Вами одно из самых известных мест Писания. В этой главе послания к Галатам апостол Павел говорит о превосходстве Божьего обетования над неким «законом»,который потребовалось «добавлять» уже после, со временем,по причине преступлений и что не менее важно, который будет выполнять свою функцию «до времени пришествия семени»...
Простой вопрос: какой закон имеется ввиду? Выросли целые поколения со следующим пониманием – это церемониальный или Моисеев закон, именно его потребовалось прибавить, чтобы упорядочить жизнь народа погрязшего в преступлениях. Однако история вопроса свидетельствует о жаркой и не простой дискуссии, в которую были вовлечены самые известные и влиятельные личности церкви Адвентистов Седьмого Дня. Моральный или церемониальный – почему это так важно и неужели от нашей позиции, которую мы занимаем относительно этого вопроса, может зависеть успех проповеди Евангелия? Предлагаем вам две работы, посвящённые этой теме, которые по нашему мнению отражают два основных взгляда на этот вопрос. Первая написана руководителем церкви АСД того периода Д. Батлером и называется «Закон в послании к Галатам». Вторая - молодым редактором журнала «Знамения времени», Э. Ваггонером и имеет название «Евангелие в послании к Галатам».
Выбор за Вами…
Пастор Батлер. (G.I.Butler)
Закон в послании к Галатам:
является ли этот закон нравственным законом,
или он относится к системе иудейских постановлений?
Издательство "Ревью энд Геральд", Баттл-Крик, Мичиган. 1886-й год.
Закон в послании к галатам: вступление.
Какой закон является предметом рассуждений Павла в его послании к Галатам: нравственный закон или церемониальная система символов и постановлений, которая имеет отношение только к иудеям? Пожалуй, ещё не было такого теологического вопроса во всей истории нашей деятельности, в отношении которого было бы столько разногласий среди наших служителей и членов церкви, как по этому вопросу. Такие разногласия существовали с большим или меньшим накалом в разное время и на разных этапах формирования вести, и временами сопровождались большей или меньшей теплотой и доброжелательностью. Временами же эти вопросы просто оставались без рассмотрения. В общем можно сказать, что взаимное снисхождение и единство находили своё место, и поэтому сложных отношений между братьями удавалось избежать. Ведущие лидеры церкви находились по обеим сторонам этого вопроса. В более ранние периоды нашей деятельности, пожалуй, большинство из них склонялись к тому, что главной темой рассуждений Павла в послании к Галатам был нравственный закон. Но в более поздний период в этом отношении произошли довольно заметные изменения, когда некоторые из наших ведущих братьев, на которых наш народ всегда смотрел как на надёжных советников в сложных вопросах, оставили эту позицию, говорящую о нравственном законе как о главной теме послания, и заняли позицию, говорящую о том, что это был церемониальный закон. Многие другие, подключившиеся к этой деятельности позже, также приняли более поздний взгляд с большой уверенностью. Было бы довольно сложно установить численное соотношение между сторонниками обоих взглядов, но опираясь на свою оценку ситуации (а возможности автора в оценке реальной ситуации нельзя считать скудными), автор этой книги мог бы сказать, что в настоящее время по крайней мере две трети наших служителей придерживаются более позднего взгляда.
В течение половины прошедших лет данный вопрос считался скорее «замороженным», чем обсуждаемым. Целью этого затишья было отнюдь не стремление склонить кого-то на свою сторону. Ни в коем случае. Но всё же стремление избегать широких обсуждений и дискуссий выдавало желание не задевать чувства представителей противоположных мнений настолько, насколько это возможно, чтобы тема закона в послании к Галатам не поднималась так часто в статьях, издаваемых широкими тиражами в наших периодических изданиях и публикациях, как это происходило бы в противном случае.
Мы признаём, что такая ситуация сохранялась вплоть до недавнего времени. Но автор, признаться, был довольно сильно удивлён тому, что в течение последних одного- двух лет данный вопрос широко рассматривался в программе подготовке служителей, проходящей в Хельдсбург- Колледже, а также в уроках журнала "Наставник", издаваемого для нашей субботней школы повсеместно, и в многочисленных спорных статьях "Знамений времени" - одной из первых наших миссионерских газет, что привело к широкому распространению этих взглядов среди широкого круга читателей, не знакомых с нашей позицией. Таким образом, значительные и настойчивые усилия были направлены на поддержку той точки зрения, что именно нравственный закон является предметом рассуждений апостола в самых ключевых текстах, обсуждающих эту тему в послании к Галатам.
Мы не расположены к тому, чтобы искать недостатки в этих статьях или в духе, с которым они были написаны, подвергать сомнению уровень их написания, или заявлять о недостаточно глубоком исследовании данного вопроса теми, кто вовлечён в этот процесс. Мы даже можем признать и оценить с определённой степенью восхищения ту проницательность, такт и способности, которые были проявлены в раскрытии указанным способом этого противоречивого, но важного вопроса перед нашим народом; вопроса, который долгие годы ожидал своего времени. Видна определённая предусмотрительность и планирование в работе распространения взглядов определённых авторов и действующих лиц. Эти качества, будучи использованы более подобающим образом, были бы воистину достойны одобрения.
Но мы решительно протестуем против распространения спорных вопросов именно таким образом, поскольку наш народ не имеет единства в этих спорных вопросах. Такая стратегия нарушает принципы, хорошо известные и практикуемые в нашей среде, принципы, к которым, как правило, мы относимся с уважением. Мы руководимы в этом вопросе советом, обладающим высоким авторитетом, который гласит, что при существовании разногласий или других мнений, по крайней мере со стороны меньшинства, данные вопросы должны обсуждаться без широкой огласки, либо эти вопросы должны быть представлены перед старшими братьями, которые могли бы их рассмотреть и принять решение. И только после этого можно будет эти материалы публиковать, но не раньше.
Но даже если бы мы считали вполне оправданным выбор в определённой степени придавать широкой огласке спорные вопросы, мы всё равно протестовали бы против самого способа подачи материала, который мы считаем неприемлемым по причине настойчивого преподавания нашим студентам, которые готовятся трудиться среди нас, взглядов, не имеющих поддержки большинства наших лидеров. Мы не думаем, что учреждения нашей деноминации были основаны для подобных целей. Наша деятельность отличается единством; однако единство не будет возрастать при использовании таких методов. Существует много материала, которому необходимо обучать, и который не затрагивает спорные темы. Мы считаем, что сам факт акцентирования внимания на этих вопросах в обучении молодых мыслящих людей, имеет свойство созидать в их умах не совсем доброжелательное мнение о характере нашей деятельности, чем если бы при помощи сознательных усилий мы пытались сделать наши разногласия настолько незначительными, насколько это возможно.
Всё это относится и к урокам, изданным в газете "Наставник", в которой были представлены данные вопросы. По нашим сведениям, а также по отчётам руководящих служителей, во многих местах нашего поля начались большие споры и противостояния вокруг данного вопроса, касающегося закона в послании к Галатам, которые часто сопровождались накалом страстей и раздорами. При таком положение вещей, связанном с противоречивыми вопросами, сам факт публикации каких-либо мнений в журналах нашей деноминации побуждает читателей считать эти мнения общепринятыми, и поэтому оставляет неверное представление в умах тех, кто изучает данные уроки и не знает, что большая часть служителей придерживается противоположного мнения. Такие действия говорят о стремлении приобретать поддержку нечестным путём. Наши уроки субботней школы должны учить только тем взглядам, которых придерживаются большая часть нашего народа.
Этот же принцип касается и статей, опубликованных в нашей передовой газете. Нам следует публиковать в ней только взгляды, присущие всей нашей организации, а не мнения отдельных авторов, как бы сильно они ни придерживались этих мнений, зная, что эти мнения не являются мнениями всей организации, принятыми всем нашим народом. Придерживаться противоположного курса в газете наших пионеров более неприемлемо, чем придерживаться этого же курса в газете "Ревью энд Геральд", которая является авторитетным голосом церкви. Ведь первая была учреждена нашим народом в качестве средства, при помощи которого мы могли бы открывать наше учение широкому кругу людей, которые ещё не знакомы с ним. Каждый читатель должен иметь достаточные причины предполагать, что статьи, опубликованные в передовой газете нашей деноминации, в газете, учреждённой нашей церковью, чтобы возвещать о её учении, что эти статьи поддерживаются самой церковью. Но такого нельзя сказать про статьи с данными спорными вопросами. Объяснения текстов из послания к Галатам, цитируемые и представленные в "Знамениях" не являются мнением большинства нашего народа, мнением церкви, и не были таковыми уже долгие годы, и авторы этих статей определённо должны об этом знать.
"Знамения" - это газета с большим количеством читателей. Она попадает также и в руки многих наших умнейших оппонентов. И с таким отношением к делу издателей этой газеты, наши оппоненты узнают о том, что в нашем учении и преподавании существуют разногласия по этому вопросу. Вне всяких сомнений, они используют этот факт не в нашу пользу. Я знаком с многолетним противостоянием в штате Айова в прошлом, длящемся многие годы, инициированным очень умным оппонентом, который использовал в свою пользу тот факт, что мы имеем разные учения по этому предмету.
Мы называем себя единым народом, который придерживается одного учения. Данное разногласие, имеющее место среди нас, вызывало большое сожаление среди наших лучших братьев на протяжении долгих лет; стратегия "Знамений" будет вести к ещё более сильному различию во мнениях, чем ранее. Многие люди за пределами церкви узнают об этом факте, хотя они могли бы никогда не узнать об этом, если бы не настойчивое распространение издателей "Знамений" своих взглядов по этому вопросу, отражённых на колонках этого издания. Каким бы ни было мнение по этому предмету, по предмету закона в послании к галатам, автор данной книги считает, что среди мудрых и заботливых братьев должно быть одно мнение насчёт целесообразности публикации в наших передовых газетах представлений, не поддерживающихся большинством нашего народа.
Твёрдо веруя в то, что закон, рассматриваемый в послании к галатам, представляет собой церемониальную систему образов и символов, которая была отменена на кресте, но никак не нравственный закон, и понимая, что посредством настойчивого обучения молодёжи, готовящейся к участию в нашей работе противоположным взглядам, а также посредством публикации противоположного мнения в уроках журнала "Наставник" и в печатных изданиях, было достигнуто нечестное преимущество, а также в надежде донести определённое количество ценной информации по этому предмету, мы посчитали не только целесообразным, но и необходимым представить этот вопрос на рассмотрение Генеральной Конференции нашей церкви, единственного органа нашего народа, где эти противоречивые вопросы должны быть рассмотрены и решены.
Обсуждаемый предмет.
Вопрос, который мы рассматриваем, является вопросом толкования. В кратком письме апостола Павла галатийской церкви мы имеем во вступлении некоторые исторические факты о нём самом и о его апостольском призвании, имеем высказывания относительно "закона", а позже мы читаем практические наставления относительно различных христианских обязанностей. Во всём послании мы встречаем выражения, в которых апостол говорит об их проблемах, проблемах в их поведении, которые появились после того, как он их оставил. Эти проблемы исходили от иудейских учителей, которые вводили верующих в заблуждение, и поэтому верующие заняли позицию, противоположную Евангелию Иисуса Христа. В своих упрёках апостол постоянно ссылается на некий "закон", в отношении которого галаты заняли неверную позицию. Как народ, мы верим в то, что существует два "закона", или два понятия, обозначаемые словом "закон": 1. Нравственный закон, и принципы морального долга, вытекающие из него. 2. Церемониальный закон, включающий в себя обряды и символы искупления, указывающие на Христа, а также гражданские законы, основанные наособого вида взаимоотношениях, существовавших между Богом и еврейским народом до времени креста. Первый "закон" мы считаем актуальным для человека во все времена, а второй считаем отменённым.
Наш вопрос теперь заключается в том, какой из этих законов апостол имеет ввиду в послании к галатам. Этот вопрос имеет большое значение, а поэтому достоин нашего рассмотрения. Важно понимать истину о значении и толковании любого текста из Писания. Особым образом это касается истины о законе в послании к галатам, потому что ссылки апостола на "закон" в этом послании используются нашими оппонентами в качестве сильнейшего основания для их антиномиальных учений. Очевидно то, что точка зрения, выражающая истинную позицию апостола, является единственной ценной позицией, и поэтому отстаивать эту позицию легче, чем ошибочную. Это и даст нам возможность противостать нашим оппонентам более успешно, и таким образом великая и стройная система истины, которой мы придерживаемся, будет утверждена. Весь наш народ должен иметь великое стремление к тому, чтобы мы пришли к единой позиции по этому вопросу.
Мы считаем, что послание к галатам было написано для того, чтобы быть достойным ответом на величайшие трудности, с которыми сталкивалось Евангелие во дни апостола. Этими трудностями была позиция иудейских учителей и последователей Христа, которые всё ещё учили соблюдению церемониального закона, обрезанию, и всем остальным постановлениям, связанным с этим законом, которые отделяли иудеев и язычников. И эти взгляды смущали умы учеников, и затуманивали великие принципы Евангелия, буквально устраняя их. Мы находим в посланиях Павла, а также в книге Деяний святых апостолов, постоянные упоминания о деятельности подобных учителей, как мы увидим в последствии. Действительно, возникают большие сомнения по поводу того, что большая часть ранней церкви, которая в основном состояла из людей, бывших до обращения иудеями, когда- либо осознала все масштабы и размах Евангелия, которое отменило эти постановления, особенно иудейские. Они придерживались этих постановлений, и были ревностными их сторонниками долгое время после того, как все эти постановления были отменены на кресте. Мы находимся в большом долгу у Павла, который по благодати Божьей предоставил нам единственное полное объяснение взаимодействия этих законов в отношении к плану спасения и в отношении к Евангелию. Однако на него также смотрели с великим подозрением многие обращённые из иудеев, потому что он ясно учил отмене многих постановлений, которые они продолжали считать священными.
Нам не стоит удивляться такому положению вещей, учитывая предыдущую историю этого народа, а также особые факторы, которые влияли на его сознание на протяжении пятнадцати столетий. Мы не сможем полностью понять обстоятельства, окружающие раннюю церковь, а также сильнейшее влияние, которому она должна была противостоять, если не проследим причины, приведшие к этому. Поэтому мы вкратце перечислим эти причины. По причине массового идолопоклонства человечества и полного отступления от Бога, Господь избрал Авраама и его потомков, чтобы они были Его избранным народом. И они оставались таковыми до самого времени креста. Бог дал им обряд обрезания, - обрезание крайней плоти, - как знак их отличия от остальных представителей человеческой семьи. Со временем, после особых опытов и водительства, Он дал им землю в их собственное владение, и учредил в их среде особые законы, постановления, обряды и церемонии, то, что называется "стеной разделения", которые сделали их особым, отделённым народом, что наблюдается даже до сегодняшнего дня. Всё это означал и символизировал знак обрезания. Этот обряд был одним из тех обрядов, которые отделяли иудеев от всего языческого мира. Об этом также говорит тот факт, что каждый язычник мог стать "прозелитом", и разделять все привилегии этого народа, приняв обрезание, и таким образом объединившись с ним. Без этого установления в ветхозаветный период ни один человек не мог быть причастником благословений спасения; но с обрезанием к нему приходили все надежды, обетования, заветы, законы, весь свет и все привилегии израильтян. Поэтому обрезание символизирует собой все те привилегии, особенно привилегии иудеев. Этот термин использовался в этом смысле, который был понятен всем. Обрезанными называли представителей особого Богом избранного народа. Необрезанными называли весь остальной мир. Следовательно, лишиться привилегий обрезания означало лишиться всех особых благословений и привилегий иудеев, и опуститься на уровень всех остальных людей мира, которые были так презираемы; с другой стороны, сохранить эти привилегии означало сохранить это ошибочное превосходство. Отсюда исходят и причины противостояния, связанного с обрезанием, в ранней христианской церкви.
Если нас заинтересуют причины того, что Бог отделил потомков Авраама от остальных людей этого мира, о чём говорит обряд обрезания, то мы можем легко обнаружить эти причины. Как мы видим из истории, каждое стремление Всемогущего сохранить на земле чистый и святой народ терпело неудачу. Перед потопом кроме Ноя и его семьи все люди на земле отвернулись от Бога, и поэтому уничтожение человечества стало необходимостью для того, чтобы начать всё заново. Ещё одно великое отступление сделало необходимым уничтожение нескольких городов долины Соддома. Кроме Авраама вряд ли можно было назвать кого-то, кто был верным Богу в его время. И поэтому Бог предпринимает более эффективный метод. Он учреждает обряд обрезания, совершаемый не без боли, и делает его знаком отличия, и таким образом возводит стену вокруг Своего народа, защищая их от потоков зла, окружающего их в языческом мире, и таким образом сохраняет "семя", церковь, пока не придёт Мессия и не установит более эффективную систему для благословения человечества. Это решение было мудрым, благородным, и достойным мудрого и заботливого Творца.
Народ, защищённый таким образом, стал причастником бесчисленных благословений. Бог доверил им Свой святой закон, включающий Его святую субботу, которая приносит неоценимые благословения. Этот закон открыл им бесконечно более ясное понимание своего долга, чем то понимание, которым обладали самые просвещённые народы вокруг них. Он обеспечил их щедрыми благами этой жизни для их благополучия в той плодородной земле, которая была им дана. Если бы они остались послушными Ему, то Он возвысил бы этот народ превыше всех остальных народов. Он даровал им величайшие обетования, наставлял их с помощью своих пророков, и даровал им Мессию, Который пришёл в этот мир через этот народ. Они и на самом деле были самым благословенным народом.
Но эти великие благословения, которые должны были сделать Израиль смиренным, благодарным народом, исполненным любви к Богу, были извращены этим же народом, который стал гордым, высокомерным, надменным, суеверным, жестоковыйным и эгоистичным, который смотрел на остальных людей свысока и считал, что Бог относится с уважением только к ним. Они наполнили меру своих беззаконий, распиная своего долгожданного Мессию. Они были настолько эгоистичными, что не смогли распознать дух любви, проявляющейся ко всем людям, которая переполняла Его драгоценную жизнь.
Затем был крест, на котором все их особые привилегии, во главе с обрезанием как главным признаком и символом были отменены. Они сами отвергли эти привилегии своим непослушанием и бунтом. Время и событие, при котором был положен предел их беззаконию, настало и свершилось. Их грехи по сравнению со светом, данным им, были даже большими, чем грехи окружающих их народов. Уже не было никакого смысла в том, чтобы сохранять эту "стену разделения" между ними и другими народами. В глазах Бога они были на одинаковом уровне с остальными людьми. Теперь все люди могут иметь доступ к Богу посредством Мессии, который пришёл в этот мир, и только через него люди могут быть спасены.
Но восприняли ли иудеи эту весть о новом порядке вещей? - Отнюдь нет. Больше всего их раздражала мысль о том, что их особые привилегии уже не принадлежат им. Ведь эти привилегии помогали им возвышать себя в своих собственных глазах, и они возвышали себя над другими на протяжении долгих веков. Они по причине этого высокомерия очень требовательно относились к тем представителям других народов, которые становились прозелитами. И теперь, когда скромный Назарянин, который никогда не имел официального образования и всеобщего признания, вместе с Его бедными, презираемыми последователями ставил их на один уровень с другими людьми, это было похоже на обесценивание всего капитала, которым они обладали. Их священные привилегии и особые благословения были единственной ценностью, которой они могли хвалиться. Они были притесняемы со стороны римлян, презираемы со стороны греков, потому что они не знали их философию, и испытывали антипатию со стороны остальных народов по причине своей гордости и тщеславия. И поэтому лишиться их единственного оплота, лишиться возможности называться Божьим особым народом - это было выше их сил и способностей.
Их ненависть была особо сильной по отношению к апостолу Павлу, потому что он больше и яснее всех остальных проповедовал и объяснял этот вопрос. Он был апостолом язычников, что обязывало его вносить предельную ясность в этом вопросе. Он указывал язычникам на Христа как на их единственную надежду. Обрезание, и всё, что оно собой символизировало, не приносит никаких особых привилегий. Поэтому мы и встречаем описания иудействующих учителей, представителей различных сект и течений среди учеников-евреев и учеников- иудеев, которые не желали признавать истину, проповедуемую Павлом, и которые противостояли ему, ходя за ним из города в город, преследуя его и даже во многих случаях пытаясь убить его. Они были чрезвычайно преданы обрезанию и преданиям своих отцов. Самое жестокое противостояние великому апостолу пришлось пережить именно на этой почве.
Когда Евангелие стало распространяться среди язычников, выйдя за пределы иудаизма, два самых важных вопроса требовали особого внимания. Эти два вопроса стали острыми из-за особых обстоятельств в жизни иудейского народа на протяжении предыдущих веков, и сейчас, когда новые взгляды уравнивали между собой иудеев и язычников, ставя их на один уровень, эти вопросы тревожили умы многих. Один вопрос касался требований закона Божьего, который распространяется на всё человечество, а также того особого факта, что иудеи также были осуждаемы этим законом как грешники, а поэтому нуждались в Спасителе точно также как и все остальные. Второй вопрос, как уже говорилось, касался отмены, произведённой на кресте, - отмены образов и символов, указывающих на Христа, включающих в себя особые преимущества, данные Израилю как Богом избранному народу, что символизируется обрезанием. До тех пор, пока не прояснились бы эти вопросы, а также связанные с ними великие принципы не были бы открыты и разъяснены, евангелие никогда не совершило бы свою работу в этом мире, потому что в христианстве воцарился бы беспорядок и путаница. Если и иудей, и язычник имеют одного и того же Спасителя, то они оба являются грешниками. Поэтому они оба могут считать себя братьями, и членами одной семьи. Но это было просто невозможным при наличии той "стены разделения", которая была между ними. Поэтому нужно было ясно показать, что эта стена была разрушена.
Про оба эти факта иудею было неприятно слышать. Он очень не желал, чтобы его считали таким же грешником, как и всех остальных, а особенно, чтобы его считали таким же грешником, как эти ненавистные язычники. Он также очень ревностно выступал за обрезание и все остальные привилегии, которые оно в себя включало. Следовательно, было необходимо, чтобы оба эти факта были ясно показаны вместе со всеми основательными причинами для их подтверждения, для доказательства их правдивости. Павел был тем человеком, который был особым образом призван Богом для того, чтобы совершить эту работу.
Мы считаем, что послание к римлянам он полностью посвятил первому вопросу, а послание к Галатам - второму. Мы не можем согласиться с некоторыми братьями, которые заявляют о том, что вопросы, темы, план и последовательность аргументов в этих двух посланиях в сущности делают их идентичными. Мы с готовностью признаём, что одинаковые высказывания содержатся в обоих этих посланиях; но мы думаем, что основная последовательность мыслей и доводов, а также конечная цель этих рассуждений существенно отличаются в этих посланиях, и поэтому часто встречающиеся сходные выражения используются с разными целями, и должны пониматься по-разному, потому что этого требуют доводы самого апостола.
В других посланиях Павла эти факты также рассматриваются, но ни в одном из них эти факты не развиваются так полно. Поэтому ввиду этих обстоятельств трудно было бы назвать разумным выбор апостола рассматривать один и тот же вопрос в двух разных посланиях. К тому же эти послания были написаны под прямым руководством и вдохновением Бога, чтобы быть особым руководством для христианской церкви. Он открывал великие принципы, которым следовало укрепить влияние церкви на все будущие века. Поэтому мы считаем необоснованным мнение о том, что оба послания имеют одно и то же назначение.
В послании к римлянам после нескольких вступительных мыслей, Павел описывает нам состояние языческого мира, объясняя, как язычники забыли Бога, и показывая их деградацию. Они определённо нуждались в Спасителе. Но, всё же, они были знакомы и согласны с законом Божьим, потому что этот закон был написан "в их сердцах" при сотворении мира, и отголоски этой творческой работы Бога всё ещё остались в их душе.
Однако иудеи имели более великое преимущество, поскольку "слово Божье" было доверено для хранения именно им. Они имели постоянный доступ к Божьим истинам, но, тем не менее, постоянно нарушали их. Апостол ясно показал, что все они были под грехом. "Все совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного." И он делает вывод: "Итак, что же? имеем ли мы (иудеи) преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как Иудеи, так и Эллины, все под грехом" "Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом". Поэтому закон должен был быть не "уничтожен", а "утверждён".
Затем апостол предлагает самый ясный и сильный аргумент, чтобы показать роль закона Божьего в плане спасения во всех его позициях по отношению к грешнику; показывает необходимость веры во Христа для того, чтобы нарушитель закона мог быть оправдан; показывает роль закона в смерти ветхого плотского человека; показывает нужду в нём как в мериле праведности, которую кающийся грешник может достичь только с помощью Христа посредством Святого Духа. Мы всегда обращаемся к посланию к Римлянам за полным и подробным объяснением функций закона Божьего в отношении плана спасения, а также в отношении окончательного оправдания его кающегося нарушителя.
Но такова ли направленность послания к галатам? Имеет ли апостол при написании этого послания в своих мыслях ту же тему? Мы думаем, что он имел совершенно другую цель. Вместо того, чтобы показать иудеям и язычникам актуальность нравственного закона по отношению к ним, он постоянно напоминает об определённой категории людей - иудействующих учителях, которые смущали учеников, и предлагали им учения, которые подрывали основы евангелия. И некоторые верующие этими учениями были удалены от веры и приняли "другое евангелие". Они очень полюбили великого апостола, когда они впервые приняли истину, и имели горячую ревность, с которой они были готовы "исторгнуть" свои глаза и отдать их ему; но под влиянием этих учителей, лишивших их покоя, эта любовь была почти потеряна. Павел был очень огорчён этим внезапным изменением в их чувствах и в их понимании. На протяжении всего послания он постоянно говорит об этом, упрекая их в их внезапной перемене, и призывая их вернуться к своим прежним позициям.
Каким же было это изменение, против которого Павел так сильно предостерегает? Неужели это изменение касалось нравственного закона? Неужели они вдруг стали слишком хорошо соблюдать субботу, воздерживаться от идолопоклонства, от богохульства, убийства, лжи, воровства, и так далее? Неужели при этом они стали думать, что они оправдываются своими добрыми делами, и поэтому не нуждаются в том, чтобы иметь веру в распятого Спасителя? Или всё- таки проблема была в том, что они приняли обрезание вместе со всем тем, что оно собой символизировало, со всеми законами и обрядами, которые служили стеной разделения между иудеями и язычниками, а также символы и образы церемониальной системы искупления? Мы без всяких колебаний утверждаем, что причиной была последняя проблема. Принимая церемониальную систему образов искупления, символов и теней, они фактически отвергали тот факт, что Христос, являясь Исполнением этих прообразов, пришёл в этот мир. Эта ошибка была очень существенной, что касается христианского учения, но они, по всей видимости, этого не понимали. Вот почему Павел пишет так строго, указывая на их заблуждение при помощи жёстких слов и выражений. Их заблуждение привело их к таким действиям, которые были несовместимы с Евангелием. Эти ошибки были не просто ошибками в суждениях и в понимании.
Давайте обратим внимание на несколько выражений апостола, разбросанных по этому посланию, прежде чем мы перейдём к исследованию самого послания. Это поможет нам более ясно понять суть.
"Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию" (Гал.1:6)
"О, несмысленные Галаты! кто прельстил вас не покоряться истине?" (Гал.3:1)
"Ныне же, познав Бога, или, лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас." (Гал.4:9-11) "Вот, я, Павел, говорю вам: если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон." (Гал.5:2,3)
"Вы шли хорошо: кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?" (стих 7-й)
"Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов" (Гал.6:12)
Обратите внимание, что эти тексты разбросаны по всему посланию. Можно было бы привести и многие другие выражения об этом. Они имеют отношение к главной теме, которая побудила апостола написать это послание к галатам. Он имел одну главную цель в своих намерениях; поэтому он постоянно и ссылается на неё. Заблуждения галатийской церкви, которые Павел так сильно обличал, заключались не только в каком-то их теоретическом воззрении о том, что они оправдывались посредством своего послушания нравственному закону, и поэтому не нуждались в Спасителе; главная проблема заключалась в их действиях, которые действительно подрывали основные истины Евангелия, смешивая его с обрезанием, - символом всех тех постановлений, которые принадлежали исключительно иудеям.
Мы не будем здесь цитировать данные тексты для того, чтобы подтвердить свои аргументы. Мы сохраним их для более подходящей возможности, когда мы будем рассматривать это послание пункт за пунктом. Мы говорим об этом сейчас для того, чтобы показать основные намерения и мысли апостола, изложенные во всём послании от начала до конца. Он, по-видимому, не мог не думать постоянно о тех фундаментальных заблуждениях, в которые были увлечены его "духовные дети" по общей вере. Эти заблуждения ему приходилось встречать везде, где бы он ни встретил иудея. На протяжении всей своей христианской жизни и деятельности он должен был бороться с ними. По причине жестокой ненависти, которую питали к нему иудеи, твёрдо державшиеся своего превосходства, опирающегося на данные законы, связанные с обрезанием, Павел должен был переносить побои, заключение, оскорбления, озлобления, длительное пленение, и, что для него было тяжелее всего переносить, он был вынужден был наблюдать, как множество его соотечественников, его "сродников по плоти", погибали для вечности, в то время как он всем сердцем жаждал их спасения. Их уши были закрыты для него и для Евангелия, которое он проповедовал. Он бы с радостью отдал свою жизнь ради их спасения; но их уши были закрыты для Евангелия, потому что он не мог признать актуальность тех разделяющих законов, которые служили разграничением между иудеем и язычником. Поэтому данный вопрос для Павла всегда был вопросом жизни и смерти. Следовательно, в послании к галатам этот вопрос постоянно всплывает. Обрезание вместе с церемониальной системой обрядов, связанной с ветхозаветной системой искупления, являются объектами его постоянных рассуждений от самого вступления в первой главе, и до самого прощания в последней.
В данном послании, без сомнения, существует несколько ссылок на нравственный закон. Мы и не можем себе представить, как можно было бы обойтись без этих ссылок, говоря о той системе искупления, которая при помощи тех символов обеспечивала прощение за нарушение этого нравственного закона. В некоторых текстах апостол использует аргументы, которые включают в себя помимо этого также и все остальные законы, и данные тексты могут включать и включают в себя оба закона, о которых мы говорим. Но мы решительно отрицаем, что закон Божий является главной темой рассуждений в этом послании. Сейчас мы намерены рассмотреть всё послание от начала до конца с целью ответить на эти вопросы. Для того чтобы читатель мог легко следить за ходом исследований, мы будем цитировать высказывания апостола.
Глава 1-я:
"1 Павел Апостол, [избранный] не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцем, воскресившим Его из мертвых,
и все находящиеся со мною братия - церквам Галатийским:
3 благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа,
4 Который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего;
5 Ему слава во веки веков. Аминь.
6 Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию,
7 которое [впрочем] не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово.
8 Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема.
9 Как прежде мы сказали, [так] и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема."
(Гал.1:1-9)
Эти слова являются вступлением к посланию. В первом тексте Павел говорит о своём высоком и почётном избрании к апостольству. Эти слова взяты в скобки. Это призвание ставит его на один уровень со всеми остальными апостолами. И действительно, его призвание было особым образом отмечено проявлением божественной силы, более чем любого другого из апостолов, что, по всей видимости, указывало на то, что он был избран Богом для самого важного дела. Павел говорит на эту тему и в других текстах послания, потому что со стороны иудействующих христиан были предприняты серьёзные попытки подорвать его авторитет, и возвысить тех апостолов, чьё служение совершалось среди иудеев, и которые никогда не осмеливались занимать такую решительную позицию, какую занял Павел, показав тем самым полное отсутствие и безосновательность национальных различий. Павел даёт понять читателям своего письма, что он полностью приготовлен и назначен Богом к тому, чтобы наставлять их в вопросах Евангелия.
Не успел Павел записать несколько строк своего вступления, как он тут же взрывается в сильнейшем порыве чувств, сразу переходя к той теме, которая его больше всего беспокоила: "Удивляюсь, что вы... так скоро переходите к иному благовествованию... есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово." "если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема." И для того, чтобы удвоить акцент на последнем выказывании, он повторяет его ещё раз. Быть подверженным анафеме, или проклятию, означает быть "приговорённым к уничтожению". Это очень сильное выражение. Что же побудило этого терпеливого, кроткого, смиренного раба Божьего так внезапно разразиться столь мощным взрывом святого негодования? Больше ни в одном другом послании мы не найдём такого вступления, которое на первый взгляд напоминает нам самую яростную атаку нетерпимого человека. Мы можем быть уверенными в том, что здесь дело не в нетерпимости и не в любом другом из человеческих слабостей. Причина таких эмоций апостола заключается в очень опасном учении, которое было рассчитано на полное обесценивание христианства, и которое уже начало действовать. Евангелие было искажено, обесценено и заменено на другие средства спасения. Разве было бы это вступление таким горячим, если бы те иудействующие учителя пытались навязать очень строгое соблюдение десяти заповедей, уча никого не убивать, не обманывать, не прелюбодействовать, не красть, и при этом склоняли людей считать, что они оправдываются своими добрыми делами? Для нас такой вывод был бы абсурдным. Но если бы эти учителя пытались склонить галатийских братьев к принятию обрезания со всеми остальными атрибутами церемониальной системы искупления, тем самым отвергая великую Голгофскую Жертву, то в этом случае такой язык был бы вполне объясним. Нам также необходимо помнить о том постоянном противодействии, которое оказывали Павлу эти учителя. Они чуть не отняли у него жизнь в Дамаске, когда он уверовал во Христа. Множество людей в Иерусалиме жаждали его крови, и некоторые даже поклялись, что не будут ничего есть и пить до тех пор, пока не убьют его. Они встречали его в каждом городе, в который он приходил, возбуждая народ против него. И сейчас, в его отсутствии, они посредством обрезания и иудейских традиций отдалили от Господа его возлюбленных детей по вере. Не удивительно, что праведное возмущение апостола достигло такой силы.
Стих 10: "У людей ли я ныне ищу благоволения, или у Бога? людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым.
11 Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое,
12 ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа.
13 Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию, и опустошал ее,
14 и преуспевал в Иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий.
15 Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил
16 открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, - я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью,
17 и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам, а пошел в Аравию, и опять возвратился в Дамаск.
18 Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней пятнадцать.
19 Другого же из Апостолов я не видел [никого], кроме Иакова, брата Господня.
20 А в том, что пишу вам, пред Богом, не лгу.
21 После сего отошел я в страны Сирии и Киликии.
22 Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен,
23 а только слышали они, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, -
24 и прославляли за меня Бога.
(Гал.1:10-24)
В данном фрагменте Павел снова указывает на доказательства своего апостольского призвания, к чему он снова и снова возвращается в своём письме. Очевидно, что эти иудействующие учителя подрывали его авторитет и положение, и превозносили апостолов из Иерусалима гораздо выше него, и делали они это потому, что он учил и говорил об отмене особых различий между иудеями и другими людьми. После этого он говорит о своём особом рвении в "иудействе", или в иудаизме, как сказано в другом переводе. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию, и опустошал ее." Он "преуспевал в Иудействе более многих сверстников" своих, "будучи неумеренным ревнителем" традиций своих отцов. Почему апостол говорит о такой удивительной ревности своей прежней жизни посвящённого иудея, когда он был зилотом и преследователем христиан? Почему он говорит об этом, когда обращается к галатийским братьям в своём письме? - Потому что это было как раз кстати. Ведь иудействующие учителя вели братьев обратно к тем учениям, которые Павел оставил, повелевая им обрезываться, чтобы тем самым сохранять и укреплять "стену разделения", угрожая им и говоря, что в противном случае они не могут спастись, как мы скоро увидим. Но разве Павел не был на их месте? Разве он получил от этой религии больше пользы, чем любой другой иудей? Разве он не превосходил в своём рвении всех этих учителей как раз в том учении, которое они несли? Разве могли эти учителя вместе с людьми, которых они уводили в заблуждение, сравниться с Павлом в рвении, в понимании и в исполнении этого учения, которые были присущи ему с его способностями, эрудицией, и его чрезвычайно великим старанием? - Никогда. Но когда Христос открыл Себя Павлу на его пути в Дамаск, он увидел совершенную неспособность учений иудаизма, посредством которого иудеи хотели спастись, привести к этому спасению. Великий свет христианства полностью вычеркнул назначение и цель всех этих постановлений прошлого. Неужели теперь они должны были вернуться ко всем этим постановлениям, которые Павел полностью разоблачил, оплакал и оставил, и отвергнуть великий свет, который он принял через прямое откровение от Господа и открыл им? Это было бы просто нелепо! Принимая эти учения, они возвращались от света к тьме. Именно к этим выводам должен был привести рассказ Павла о своём прошлом опыте, обращённый к умам галатийских братьев.
Но что же представляло собой это учение иудаизма, о котором он говорит, и которое он с таким рвением соблюдал перед своим обращением? Было ли это рвение рвением к соблюдению нравственного закона, которое отличало его от остальных и вело его к тому, что он преследовал церковь? Ни один адвентист седьмого дня так бы не сказал. Без сомнения, ученики Христа, которых он преследовал, соблюдали этот закон гораздо лучше, чем он сам, или его соотечественники. Насколько мы знаем, иудеи никогда не говорили о том, что принципы десяти заповедей относятся только к иудейскому народу. Они верили в то, что все люди обязаны соблюдать этот закон, включая субботу. Они прекрасно знали, что в этом законе нет ничего, что относится только к иудеям. Речь шла о другом законе, который включал в себя "традиции отцов", а также заявления об исключительности иудеев, об их превосходстве, об обрезании, о родственных отношениях, и о спасении посредством иудаизма и его доктрин, а не посредством Иисуса, что и возбуждало в Павле такой гнев и рвение. Его главным намерением в написании этого письма было показать галатам глупость их выбора перейти обратно в иудаизм.
В остальной части данного фрагмента апостол продолжает описывать свой личный опыт, рассказывая о своей жизни после своего обращения. Он был призван Богом проповедовать Христа "среди язычников". Он имел божественное призвание к особой работе, к которой ни один другой апостол не был призван в такой степени. Он получил свои знания о христианском учении не от церкви в Иерусалиме и не от апостолов, но посредством прямого откровения. И хотя он и провёл с Петром пятнадцать дней спустя три года после своего обращения, всё же он принял своё поручение не от Петра и ни от какого другого человеческого авторитета. Божье провидение очень бережно хранило Павла от влияния ведущих лидеров церкви, и посредством особого просвещения приготовило его к тому, чтобы занять ведущую позицию в распространении Евангелия языческому миру. Его прошлая жизнь и образование, а также доскональное знание иудаизма приготовили его ум к тому, чтобы понять всё, что Евангелие могло сделать для человечества. И когда ему был открыт свет Евангелия во всей полноте, он был полностью приготовлен к встречам с противодействующими иудейскими учителями, существовавшими в каждом городе, приготовлен к тому, чтобы открывать им несостоятельность иудейства, и открывать языческому миру свет Евангелия во всей своей силе. Ни один другой апостол не был приготовлен к такой деятельности в том направлении, в котором действовал Павел. В своём письме галатийским братьям он говорит о своём прошлом опыте, чтобы они поняли его полную подготовленность как апостола, которую эти ложные учителя пытались умалить.
Глава 2-я:
"1 Потом, через четырнадцать лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита.
2 Ходил же по откровению, и предложил там, и особо знаменитейшим, благовествование, проповедуемое мною язычникам, не напрасно ли я подвизаюсь или подвизался.
3 Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Еллина, не принуждали обрезаться,
4 а вкравшимся лжебратиям, скрытно приходившим подсмотреть за нашею свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас,
5 мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас."
(Гал.2:1-5)
Мы дошли до самого интересного места в исследованиях нашего вопроса. Обстоятельства, упомянутые в данных текстах, безошибочно связывают данный визит с обстоятельствами из 15-й главы Деяний Апостолов. Вопросы, тревожащие умы учеников в обоих ситуациях являются теми же самыми. Обстоятельства также одинаковые. Участники событий и личности в сущности те же. Хронология обоих ситуаций одинакова. Ни одно другое событие из зафиксированных в Библии визитов апостола не подходит под хронологию и высказывания данного визита, кроме как событие из 15-й главы книги Деяний. В своей книге "Жизнь и послания апостола Павла" Коннибер и Хоусон представляют нам исчерпывающее доказательство в пользу этого вывода, в котором рассмотрено и не оставлено без ответа каждое возражение, которое только может возникнуть. Они заявляют, что "большинство лучших библейских комментаторов и критиков" согласны с тем, что эти два места Писания говорят об одном и том же визите апостола. За недостатком места мы не можем представить здесь эти многочисленные доказательства в поддержку данной точки зрения. В этом нет необходимости. Скорее всего ни один из наших братьев не будет сомневаться в этом; но все желающие проверить эти доказательства могут открыть 7-ю главу этой ценной книги Коннибера и Хоусона. Доктор Кларк, и многие другие библейские комментаторы, вместе сестрой Уайт, поддерживают этот взгляд.
Чтобы уяснить значение и ценность этого визита, мы приведём здесь цитату из 15-й главы книги Деяний: "Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к Апостолам и пресвитерам в Иерусалим." (Деян.15:1,2)
Прийдя в Иерусалим и рассказав обо всём, они стали свидетелями следующих происшествий: "Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси уверовавшие и говорили, что должно обрезывать [язычников] и заповедывать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: мужи братия! вы знаете, что Бог от дней первых избрал из нас [меня], чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали; и Сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам; и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, [желая] возложить на выи учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатию Господа Иисуса Христа спасемся, как и они." (Деян.15:5-11)
Пожалуй, не было более великой проблемы в ранней церкви, чем эта. Этот кризис назревал годами. Вопросы о соблюдении закона Моисеева возникали постоянно. Евангелие уже распространялось на большие расстояния. Множество язычников интересовались Евангелием, люди принимали его. Однако упомянутые иудействующие учителя повсеместно причиняли проблемы. Павел и Варнава имели с ними "немалые состязания". Эти учителя ходили по следам этих апостолов, которые проповедовали Евангелие язычникам, и смущали обращённых, отнимая у них веру в то, что проповедовали апостолы. Они "скрытно приходили подсмотреть за нашею свободою", которую ученики имели во Христе, постоянно пытаясь внедрить свои иудейские понятия. Они были решительно настроены привести всех верующих "в рабство" своих учений, обязывающих соблюдать иудейские законы и обычаи. Степень их влияния и распространения их заблуждений ясно отражена в данных текстах. Они говорили: "Если не обрежетесь..." и не будете соблюдать закон Моисеев, "то не можете спастись". Весь языческий мир должен был быть обрезан и стать иудеями. Все те обряды, обычаи и церемонии закона Моисеева, должны были быть соблюдаемы. И в этом случае славный свет и свобода Евангелия была бы ограничена узкими рамками иудейского "ига рабства".
Не удивительно, что Павел заявляет: "Мы не уступили им ни на час". Он видел ясно, что под угрозу поставлена вся проповедь Евангелия. Если бы эти иудейские доктрины были приняты повсеместно, то Христос согласно им просто не мог быть обещанным Мессией, и Его смерть была напрасной. Вера в Него перестала бы быть спасительным принципом. Люди должны были бы спасаться при помощи обрезания и соблюдения закона Моисеева. Благополучие христианской церкви, а также учение о вере во Христа, которое он проповедовал, требовали того, чтобы этот вопрос был решён раз и навсегда. Это был поворотный пункт в истории всей христианской церкви. Выбор стоял между свободой и рабством, между иудейской узостью мышления и исключительностью с одной стороны, и свободе во Христе Иисусе с другой стороны. Евангелие никогда не смогло бы быть проповедано до концов земли с таким бременем, возложенным на него. Обстоятельства дела требовали, а особое откровение от Господа указывало на то, чтобы этот решающий вопрос был поднят в высшем совете церкви для его разрешения на генеральной конференции верующих в Иерусалиме.
Павел и Варнава, апостолы язычников, и ещё несколько братьев отправились в Антиохию, чтобы посетить учеников. Они взяли с собой Тита. Он был примером и иллюстрацией по этому вопросу. Он был необрезанным эллином, и в то же время был посвящённым христианином. Как братья поступят с ним? Примут ли они его как брата по общей вере? Или они отвергнут его, отказавшись принять его как одного из них до тех пор, пока он не пройдёт этот старый иудейский обряд, - обрезание? Является ли проверка на приверженность к христианству такой же, как и проверка на приверженность к иудаизму? Или для того, чтобы пройти эту проверку, достаточно показать сердце, очищенное верой в распятого Спасителя? Павел не мог поднять этот вопрос более ярким образом, чем он сделал, когда привёл с собою посвящённого Тита.
Для нас невозможно, спустя восемнадцать столетий языческой свободы, понять тот пристальный интерес, который проявлялся по отношению к вопросу, ожидавшему решения на этом соборе. Обращённым из евреев, которые были строгими фарисеями, казалось, что ставится под угрозу уничтожения всё, что они ранее считали священным в своей жизни. На протяжении целых столетий после их пленения, рассеянные среди язычников, они с большим трудом тщательно пытались сохранить свои отличительные национальные признаки. Их часто ненавидели и преследовали за это. И теперь всё это, казалось, будет устранено, и они окажутся на одном уровне с язычниками, с которыми они так сильно старались не смешиваться. Причина их слепоты заключалась в том, что они не поняли чрезвычайной важности смерти Христа. Если бы они поняли это, как это понял Павел, то для них всё стало бы предельно ясным.
Неудивительно, что были "немалые состязания" и жаркие дискуссии, когда поднимался этот великий вопрос. Павел, как мудрый советник, имел личное общение с апостолами и лидерами церкви. Когда все собрались для рассмотрения этого вопроса, то они не могли не видеть, что позиция Павла была единственной разумной позицией, единственно возможной альтернативой выбора. Пётр на этом собрании также упомянул факты, связанные с обращением Корнилия, - первым явным случаем обращения язычника. В этом случае Бог дал доказательство Святого Духа в качестве божественного аргумента в пользу принятия верующих в церковное общество без обрезания. Какое свидетельство могло было быть сильнее этого доказательства? Также было обращено большое число других язычников, получая подобные свидетельства. Неужели сейчас они все должны повернуть назад, и возложить на шеи этих учеников "иго рабства", после того, как Бог дал им того же Духа, которого приняли и ученики-евреи? Это было бы абсурдным решением.
Павел и Варнава перечислили удивительные случаи действия божественной силы, сопровождающей их служение среди язычников. Многие приняли Евангелие, и могущественные чудеса были совершены в качестве доказательств того, что Бог был с ними в их труде; ни один апостол не совершал более великих чудес, чем они. И они не требовали от обращённых язычников, чтобы те обрезывались. Будет ли разумным отвергать все эти доказательства божественного одобрения и начать принимать всех язычников в сообщество верующих, возводя заново старую стену разделения? Это просто немыслимо!
На эти аргументы иудействующие ученики, ревностные по закону Моисея, не смогли найти достойного ответа. Наконец Иаков, брат нашего Господа, считавшийся почтенным и освящённым человеком, называемый обычно "Иаковом справедливым", встал для слова. Он был на этой встрече председательствующим. Он привел другие сильные причины в пользу позиции Павла и Варнавы, и после этого было вынесено решение собора: "Поелику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас [своими] речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, то мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа.Итак мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам то же и словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего необходимого: воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы". (Деян.15:24-29)
Таким образом был решён этот очень важный вопрос, и Евангелие свободы одержало великую победу. Верующие- язычники могут становиться членами семьи Иисуса Христа без обязательств соблюдения церемониального закона. Обрезание как символ иудейской исключительности, было отменено. Тита "не принуждали обрезываться" и ревностные иудействующие учителя получили решительный отказ. Какое тяжкое бремя этот собор снял с церкви! Какие страшные последствия постигли бы её, если бы решение было противоположным! Павел, должно быть, вернулся в Антиохию со спокойным сердцем.
Но какое отношение этот собор и данное решение имеет к нашему вопросу, к закону в послании к Галатам? - Самое прямое и непосредственное. Этот самый вопрос, который рассматривался на данном соборе, и является предметом апостольского послания этой церкви. Если бы нравственный закон был главной темой этого послания, зачем Павлу было упоминать о церковном соборе в Иерусалиме? Будет ли какой-то адвентист седьмого дня утверждать, что предметом рассмотрения этого собора был нравственный закон? Был ли нравственный закон назван апостолом Петром "игом... которое не могли понести ни вы, ни отцы ваши"? Где в данном церковном соборе нравственный и церемониальный законы смешиваются и рассматриваются вместе? Неужели на том соборе было вынесено решение отменить заповеди о воровстве, лжи, соблюдении субботы и убийстве? Мы все знаем ответ на эти вопросы. Данный собор не касался десяти заповедей. На нём не обсуждалась повсеместная актуальность нравственного закона. Но в отношении иудейских законов дело обстояло совсем иначе. Эти законы были обсуждаемы. Получается, что Павел в письме к галатам, говоря в основном о законе Моисеевом, упоминает об Иерусалимском соборе как о самом сильном доказательстве ошибочности позиции галатийской церкви. Мы ясно понимаем, что он имел в виду не нравственный, а церемониальный закон. Занять какую-то другую позицию в отношении данного собора означает заявить, что аргумент Павла не имел отношения к теме его послания. Ведь и в самом деле, если он пытался показать галатам связывающие обязательства нравственного закона, и оправдание по вере за его нарушение, то в его аргументе, ссылающемся на решение собора, рассматривающего совсем другой закон, не было бы никакой силы. Однако взгляд, которого мы придерживаемся, совершенно согласуется с аргументом Павла и со всеми остальными текстами. Противоположный взгляд лишает силы данный аргумент, делая его нелогичным.
"И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного: Бог не взирает на лице человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более. Напротив того, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных - ибо Содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников, - и, узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам [идти] к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности." (Гал.2:6-10)
В данном тексте мы встречаем интересный факт, который открывает нам важную сторону вопроса, обсуждаемого Павлом с галатийскими братьями. В данном повествовании мы наблюдаем, как позиция Павла как апостола, и его авторитет в деле Евангелия, утверждаются как никогда раньше. Опыт Павла был особенным и поразительным. Сначала он был жестоким преследователем, с которым христиане больше всего боялись встречаться, который приносил страх и смятение повсюду, где бы он ни появлялся. Затем, после его изумительного опыта обращения, о котором многие не знали, он, спустя какое-то время, стал служителем Евангелия. После своего обращения он ушёл в Аравию, и пробыл там около трёх лет. Многие могли прийти к выводу о том, что он оставил христианство. В нескольких библейских текстах мы находим свидетельства о том, что истинность его обращения вызывала немалые сомнения в церкви. Но Варнава нашёл его. Когда он начал свой труд, то этот труд совершался для язычников; и учение, которому он учил, было весьма неприемлемым для обращённых из иудеев. И до самого Иерусалимского собора он, по-видимому, не был признан в церкви как служитель, имеющий независимую миссию. Скорее всего, некоторые думали о нём как о каком-то "противодействующем апостолам в Иерусалиме", другие - как о полностью независимом от них". Таков взгляд Коннибера и Хоусона.
Но на Иерусалимском соборе всё изменилось. Они полностью признали и согласились с его миссией, и увидели, что Дух Святой доверил работу по проповеди Евангелия языческому миру главным образом под его руководство. Учение, которому он учил, теперь повсеместно принимались апостолами, и церковью в целом, по крайней мере, теоретически. Павел и Варнава получили "руку общения", что означало полное принятие их работы. Они были посланы в свою миссию "к язычникам", в то время как Пётр продолжал совершать работу в основном в иудейской прослойке церкви. Изумительная победа была одержана в пользу истины, которой учил Павел во время этого великого кризиса. Значение данного вопроса в первоапостольской церкви можно почерпнуть из того факта, что никакой другой великий собор подобного масштаба никогда не имел места в ранней церкви.
С этого момента и далее, вся направленность работы по распространению Евангелия, как это видно из книги Деяний Апостолов, переключилась на язычников. Данный собор стал великим ободрением в служении язычникам. Главный интерес мировой церкви с тех пор был сконцентрирован вокруг служения Павла. И эти факты, упомянутые апостолом в его письме, должны были возыметь большую силу в умах галатийских братьев, которые поддались влиянию этих самых иудействующих учителей.
Мы не видим, как Павлу можно было сделать свой аргумент более весомым. В сущности, он сказал им: "Неужели вы возвращаетесь к обрезанию и церемониальному закону после великого Иерусалимского Собора, на котором было принято противоположное решение, после того, как я вам преподал истину, после утверждения моей миссии для языческого мира апостолами в Иерусалиме и всей церковью? Неужели вы последуете за этими ложными учителями, а не за всей церковью?" Это обращение должно было быть самым убедительным.
"Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо, до прибытия некоторых от Иакова, ел вместе с язычниками; а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие Иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине Евангельской, то сказал Петру при всех: если ты, будучи Иудеем, живешь по- язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе Иудеи, а не из язычников грешники; однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня. Не отвергаю благодати Божией; а если законом оправдание, то Христос напрасно умер." (Гал.2:11-21)
Мы имеем здесь третью историческую ссылку на факты из истории жизни Павла, касающиеся предмета данного послания. Речь идёт о его публичном упрёке в сторону Петра в присутствии других людей, и о существенных замечаниях, сделанных по этому поводу. По-видимому, Пётр прибыл в Антиохию вскоре после великого Собора, прежде, чем Павел и Варнава отправились в своё очередное путешествие для того, чтобы совершить служение. Сперва он жил так, как и Павел, ел с язычниками, не обращая внимания на иудейские законы и обычаи. Но когда в Антиохию из Иерусалима пришли некоторые из учеников, которые были ревнителями всех требований закона Моисеева, Пётр изменил своё поведение, и уже не поступал, как раньше. И это отступление от принципов набрало такую силу, что даже Варнава, спутник Павла, был увлечён этим лицемерием со всеми остальными. И для того, чтобы противостать давлению и влиянию, набравшему силу в этой ситуации, потребовались действия такого решительного, мудрого и стойкого человека с твёрдыми убеждениями, как апостол Павел. Эта ситуация показывает нам, насколько сильными были настроения и стремления вернуться к обычаям иудаизма в ранней церкви. Просто изумляет тот факт, что после принятого решения на Соборе в присутствии такого знаменитого человека, каким был Пётр, и в присутствии того человека, который вместе с Павлом представлял этот вопрос перед собором, занимая ту же позицию относительно закона Моисеева, которую занимал и Павел, что эти люди так быстро были увлечены этим влиянием. Ещё больше удивляет тот факт, что Варнава, спутник Павла, который был с ним в его служении язычникам, который всей душой поддерживал эти позиции, также поддаётся этому влиянию иудействующих учителей. Эта изумительная непоследовательность, так или иначе, показывает силу влияния, которое действовало в пользу национальных разграничений в то время в церкви, которая имела своим центром Иерусалим. Это влияние и сделало необходимостью созыв великого собора. И хотя решение было принято полностью в пользу истины, которую отстаивал Павел, всё же, дух национального величия всё ещё был силен. Противодействие такому влиянию - это самая трудная задача, с которой только может встретиться человеческая природа.
Мы имеем этому много примеров даже в наши дни. Достаточно представить себе чувства многих белых людей по отношению к тем людям, которые только недавно были рабами; хорошим примером также служит кастовость людей в Индии. Когда представители различных противоположных друг другу слоёв общества становятся последователями Христа, то даже их статус христианина порой не приводит их к равноправным отношениям, потому что более привилегированные классы людей не желают снисходить и общаться с теми, кого они считают ниже их самих. Тем более такое разграничение происходило между обращёнными иудеями и язычниками, что особенно касалось совместной трапезы. Конибэр и Хоусон пишут на странице 178: "Специфический характер иудейской религии, которая отделяла иудеев от остальных, служил причиной возникновения непреодолимых препятствий на пути их социального объединения с другими людьми. Их церемонии и обряды просто исключали возможность совместной трапезы с язычниками". Пётр сказал Корнилию, что " Иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником" (Деяния 10:28). По его возвращению в Иерусалим ему предъявили серьёзное обвинение: "ты ходил к людям необрезанным и ел с ними" (Деян 11:3). Несмотря на то, что принципы, на которых было основано решение Иерусалимского Собора, теоретически противоречили таким взглядам, всё же такие настроения и позиции имели место, и даже Пётр с Варнавой порой не могли устоять под их натиском.
Вызывает большое сомнение предположение о том, что церкви в Иудее и в Иерусалиме когда-либо были полностью свободны от этих позиций; потому что во время последнего визита Павла в Иерусалим, эти же позиции были настолько сильными, что он по совету Иакова, до определённой степени уступил их давлению, и принял участие в некоторых обрядах церемониального закона, в результате чего был схвачен в храме, и подвержен длительному тюремному заключению (Деяния 21). Требования церемониального закона касались вопроса принятия пищи в такой же степени, как и вопроса обрезания, который также рассматривался на Соборе, но был другим аспектом одного и того же церемониального закона.
Судя по упрёку, который Павел предъявил Петру в публичной форме, он рассматривал этот вопрос как чрезвычайно важный, влияющий на целостность и незыблемость евангельского учения, которое он проповедовал. Симон Пётр долгое время был в числе первых апостолов. Он учился у самого Спасителя, и "евангелие для обрезанных" было особым образом "поручено" ему, подобно тому, как "Евангелие для обрезанных" было поручено Павлу. Он творил великие чудеса. Вся христианская церковь склонялась к тому, чтобы смотреть на него как на своего лидера. Христос оказал ему особую честь. Он, без сомнения, был старше Павла; всё же Павел, молодой служитель, выглядевший весьма слабым и смиренным человеком, публично упрекнул этого знаменитого апостола, высказав этот упрёк ему прямо в лицо. Мы можем быть уверенными в том, что этого никогда бы не случилось, если бы Павел не понимал всей душой, что этого требуют сложившиеся обстоятельства, поскольку в этой ситуации нужно было защищать величайший принцип, поставленный под угрозу.
Петр "подвергался нареканию". Этот кризис имел очень важное значение, поскольку в нём великий принцип евангельской свободы переносил отчаянное и настойчивое противостояние в церкви со стороны тех, кто был намерен возложить иго иудейского ритуального рабства на шеи обращённых язычников. Пётр, убоявшись людей, позволил склонить себя к тому, чтобы занять неверную позицию, увлекая с собой Варнаву и почти всех иудеев, бывших с ним. Павел был вынужден в этом случае выступить за истину, даже если ему придётся упрекнуть своих братьев, которые были старше него и обладали более сильным влиянием. Павел знал, что если пример, поданный этими братьями, возымеет свою силу, то от этого пострадает дело Божье. Если обращённые из иудеев и обращённые из язычников не могли есть вместе то как они могли составлять единое тело, единую семью во Христе? Это было бы просто невозможно. Поэтому упрёк Павла был необходимым и заслуженным упрёком. Бог поддержал позицию Павла и даже сделал так, что данный исторический факт сохранился на вдохновенных страницах, открывая факт слабости одного из Его самых знаменитых слуг. Пётр никогда и не пытался дать ответ на этот упрёк, ведь он знал, что никакого ответа и быть не могло.
Почему же Павел упоминает об этих обстоятельствах в своём письме к галатийским братьям? - Потому что это упоминание было как раз кстати. Ведь они возвращались обратно к тем же принципам и практикам, за которые Пётр был справедливо обличён. Их курс действий был осуждён невзирая на такую значительную фигуру, как апостол Пётр, и Пётр смирился перед этим упрёком. Должны ли галаты теперь под влиянием подобного же рода иудействующих учителей продолжать идти этим неверным курсом, который потребовал такого прямого упрёка и получил его? - Определённо, нет.
Вопрос: Затрагивало ли каким-то образом поведение Петра вопрос о десяти заповедях? Имело ли оно к нравственному закону хоть какое-то отношение? Упоминался ли этот закон в данных происшествиях хоть одним словом? - Нет, не упоминался. Речь шла только о церемониальном законе, о принципах ритуальной чистоты, о послушании закону Моисея. Нравственный закон не затрагивался.
Давайте взглянем на рассуждения Павла, который логически следовал за Петром: "если ты, будучи Иудеем, живешь по-язычески (как он и жил перед тем, как "некоторые пришли из Иерусалима"), а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?" Это поведение говорило о совершенно удивительной непоследовательности, причиной которой был исключительно страх Петра перед людьми, и стремление сохранить своё влияние среди иудействующих учеников. Он знал, что за своё поведение он скорее всего будет призван к ответу по возвращении в Иерусалим. "Мы по природе Иудеи, а не из язычников грешники (речь идёт о Петре, Варнаве и Павле); однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть." Нам необходимо помнить о том, что эти слова были сказаны в упрёк тем, кто всё ещё верил в актуальность и силу иудейских законов ритуальной чистоты. Эти законы были тесно связаны с той великой церемониальной системой искупления, которая была упразднена на кресте. Они были её частью.
Пётр и Варнава прекрасно знали, что, хотя в своей прежней жизни они высоко ценили эти обряды и соблюдали их, всё же эти обряды не принесли им спасения. Как они сами, так и все те, кто были ортодоксальными иудеями в прошлом, должны были быть спасены только верой во Христа. Как же нелепо было с их стороны поддерживать эти церемонии и обряды, которые "с яствами и питиями, и различными омовениями и обрядами, [относящимися] до плоти, установлены были только до времени исправления", и склонять язычников к их исполнению, в результате чего они были вынуждены в Антиохии отказаться есть вместе с язычниками! Если эти ветхие постановления закона Моисеева не могли спасти таких посвящённых людей, как Пётр, Варнава и Павел, то разве они могли принести какую-то пользу язычникам, которые никогда раньше их не соблюдали? - Конечно нет. "Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия" и так далее.
Данные слова определённо доказывают правильность нашего толкования 15-го и 16- го текстов. Павел в своём упрёке ссылается прямо на неверную позицию Петра и Варнавы, которые буквально исповедовали требования законов "еды и пития", отказываясь есть с язычниками. "Если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником." Как Пётр, так и Павел ранее своим примером показывали, что эти законы были упразднены, принимая пищу с обращёнными из язычников, тем самым демонстрируя равенство с ними. Но позже Пётр и Варнаваотказывались есть с язычниками, тем самым снова исповедуя актуальность этих постановлений. Поэтому своими собственными действиями они сами себя делали "преступниками", или буквально "нарушителями закона" (греческих оригинал), то есть грешниками. К чему же, согласно такой логике, привела их вера во Христа? Судя по их поведению, они сперва признали неспособность этих церемониальных установлений спасти их, когда уверовали во Христа и признали эти законы упразднёнными, а потом Пётр вернулся к прежним позициям и снова признал эти церемонии обязательными, снова призывая к их соблюдению. К чему же вела его вера во Христа, согласно всему вышесказанному? Получается, что вера во Христа вела его к нарушению того закона, которому он сейчас подчинялся. Следовательно, Христос является служителем греха; Христа недостаточно для спасения. Христос привёл его к нарушению закона, который он теперь соблюдал. Этот ветхий закон о ритуальной нечистоте теперь нужно было соблюдать для того, чтобы спастись. Против такой позиции Павел отвечает самым красноречивым образом: "Никак!", или "Боже сохрани!". Ведь такая позиция однозначно вела к тому, что обращённые из иудеев чувствовали на себе обязанность соблюдать те постановления, которые были отменены на кресте, чтобы быть оправданными, но Павел верил во Христа как в единственный источник оправдания.
Мы не можем согласиться с тем, что в словах упрёка, адресованных Петру, словах, открывающих непоследовательность позиции, которую тот занял, отказавшись есть с христианами-язычниками, что в этих словах присутствует хоть какой-то намёк на нравственный закон. Хотя некоторые выражения в этой речи похожи на выражения из послания к Римлянам и других книг, относящиеся к нравственному закону, всё же этот факт ничего не доказывает. Мы с большой готовностью соглашаемся с тем, что когда некоторые из этих выражений Павла были использованы им в его рассуждениях о нравственном законе, то они действительно имеют к нему отношение. Но в данном случае цель была другой, и поэтому схожесть этих выражений ничего не доказывает. Для того, чтобы понять мысль автора, необходимо принять во внимание сам предмет его рассуждений, ознакомиться с фактами, на фоне которых он рассуждает, а также понять цель, с которой было написано послание. Мы уже рассмотрели целых две главы этого послания, что составляет около трети всего документа, и до сих пор не встретили ни одной ссылки на нравственный закон; однако мы всюду встречали ссылки и связи с другим законом, законом Моисея. И прямо перед этими ссылками мы читаем ясные упоминания о предмете упрёка, с которым Павел обратился к Петру по вопросу совместной трапезы. Рассматривает ли нравственный закон эти вопросы? Неужели Пётр отказался от значимости нравственного закона, а затем снова вернулся к его актуальности? Какие из десяти заповедей были нарушены во время совместного приёма пищи с уверовавшими язычниками? Неужели иудействующие последователи Христа оказывали такое сильное давление на уверовавших язычников для того, чтобы заставить их соблюдать заповеди десятисловия? Мы знаем, что такие выводы совершенно абсурдны.
Следовательно, предположить, что Павел говорил о нравственном законе в выражениях "человек оправдывается не делами закона", "законом я умер для закона", и так далее, означает исказить всю тему и направленность его высказываний, которая сначала указывает на то, что всё послание к галатам до этих пор говорило о церемониальном законе, приводя в пример обличение Петра, поддерживающего церемониальный закон, а потом внезапно переменило тему, и стало говорить о совершенно другом законе, который не имеет отношения к данной теме. Такое необоснованное предположение совершенно недопустимо. В нём нет никакой необходимости. Предмет рассуждений апостола, который мы рассмотрели, полностью гармоничен сам по себе, со всеми фактами, рассматриваемыми в этом письме, и со своей главной целью, которая и послужила причиной написания этого письма. Павел постоянно боролся за свободу христианской церкви от иудействующих учителей, которые стремились снова обременить людей игом рабства, которое не смогли понести ни они, ни их отцы.
"Не отвергаю благодати Божией; а если законом оправдание, то Христос напрасно умер." Эти учителя отвергали и лишали силы благодать Божью, которая пришла со смертью Христа и Его прощающей любовью. Нет ни одного закона, посредством которого слабый, грешный человек мог бы достичь стандарта праведности, которую требовал Бог. Эта праведность должна быть достигнута с помощью Христа. Насколько же глупо поступили Пётр и Варнава вместе с иудействующими христианами, испытывая давление и принуждение вернуться к прежнему игу рабства, которое они сами однажды упразднили! Это иго рабства всегда было "слабым", "негодным" и "плотским". Оно никогда не могло "избавить от греха". Для чего этим людям нужно было снова возвращаться к нему? Аргументы Павла оказались незыблемыми, и Пётр ничего на это не ответил.
И ещё несколько слов по поводу "оправдания". Мы твёрдо верим в то, что послание к галатам, как и послание к римлянам доказывает необходимость веры в нашем оправдании от преступлений нравственного закона, и абсолютную невозможность оправдания от наших прошлых грехов последующим соблюдением какого бы то ни было закона. Но в то время многие считали актуальными и действенными оба закона; большее же количество людей надеялись в вопросе оправдания на послушание церемониальному закону, с его постановлениями обрезания, образами, тенями, и множеством обрядов, чем на послушание нравственному закону. И это было естественно, потому что этот закон действительно содержал церемониальную систему искупления ветхого завета. Вся ценность этой системы состояла в том, что она указывала на Христа. Многие скорее всего этого не понимали, и думали, что одно только послушание этой системе могло прощать грехи. После того, как пришёл Христос, эта система потеряла всю свою значимость, но они всё ещё надеялись на неё в вопросе своего оправдания. Исправление этой ошибки и было главной целью письма, которое Павел написал галатам.
Ошибка наших братьев заключается в попытке доказать, что галаты надеялись на нравственный закон в вопросе своего оправдания, в то время, как они на самом деле искали оправдания в послушании закону Моисея. Мы считаем, что термин "дела закона" относится к церемониальному закону если не во всех, то почти во всех случаях, где он встречается.
Глава 3.
"1 О, несмысленные Галаты! кто прельстил вас не покоряться истине, [вас], у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, [как] [бы] у вас распятый?
2 Сие только хочу знать от вас: через дела ли закона вы получили Духа, или через наставление в вере?
3 Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью?
4 Столь многое потерпели вы неужели без пользы? О, если бы только без пользы!
5 Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса через дела ли закона [сие производит], или через наставление в вере?
6 Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность.
7 Познайте же, что верующие суть сыны Авраама.
8 И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: в тебе благословятся все народы.
9 Итак верующие благословляются с верным Авраамом." Мы достигли начала особых рассуждений апостола по рассматриваемой им теме. Это послание можно разделить на три основных части. Первые две главы главным образом касаются ссылок на историю служения Павла, которые, как мы увидели, имеют важную роль в теме послания. После этого следует рассуждение апостола, занявшее следующие две главы с лишним. Остальная треть письма посвящена драгоценным практическим наставлениям в отношении различных сфер христианской жизни и долга, которые перемежаются с несколькими упоминаниями об основной теме послания.
Мы заявляем, что исторические факты, рассмотренные нами, а также рассуждения, которые следуют за ними в 3-й и 4-й главах, тесно и логично друг с другом связаны и являются результатами особых усилий Павла исправить ошибки и заблуждения, в которые ушла галатийская церковь, а также являются особым ответом Павла, который раз и навсегда мог бы противостать постоянным усилиям этих иудействующих учителей наложить иго церемониального закона на эту церковь. Одним из доказательств этому мы считаем вывод, сделанный Павлом в начале 5- й главы: "Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот, я, Павел, говорю вам: если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати", и так далее. Мы прочли главный вывод, подытоживающий долгие рассуждения Павла в 3-й и 4-й главе.
Мы внимательно рассмотрели первую часть послания, содержащую три исторические ссылки:
1. Сообщение апостола о его собственном "образе жизни в иудействе" - каким слабым и непригодным был этот образ жизни, хотя Павел превосходил всех других в своём рвении и познаниях в этой системе.
2. Его ссылка на Иерусалимский собор и на его решения, противоречащие той позиции, которую галатийские братья заняли в отношении обрезания.
3. Его публичный упрёк Петру за возврат к церемониальному закону.
Все эти ссылки полностью связаны с церемониальным законом. Теперь последуем за его рассуждениями до самого вывода. Этот вывод, как мы видим, относится к той же теме. "Если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа". "Всякий человек обрезывающийся... должен исполнить весь закон". "Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства." Можем ли мы, учитывая все эти предпосылки, все рассуждения об обрезании и о церемониальном законе, а также вывод, касающийся этой же темы, говорить о том, что тема послания касается совершенно другого закона? Это будет совершенно абсурдным утверждением. Поэтому, полностью погрузившись в значение всех рассуждений, мы имеем все причины ожидать полной гармонии всех аргументов и выводов.
Новый перевод переводит первый текст следующим образом: "О, несмысленные Галаты! кто окодловал вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, [как] [бы] у вас распятый? " Фраза "не покоряться истине" в этом переводе опущена. В греческом тексте также нет тех слов, которые бы соответствовали этому выражению. Буквальный перевод с греческого гласит: "Глупыегалаты, кто окодловал вас?", и далее в греческом: "уведённых ложными предлогами". Здесь более подойдёт "увлечённыхложными практиками". Павел не использовал бы такой суровый и жёсткий язык, такие резкие высказывания, если бы эти галаты особенным образом стремились и практиковали очень строгое соблюдение десяти заповедей, думая, что тем самым они будут оправданы своими добрыми делами. Он бы употреблял более мягкий язык, если бы их дела были правильными, но только мотивы и взгляды на учение - неверными. Но насколько естественным кажется употребление данных выражений после его троекратного упоминания церемониального закона в попытках доказать им их неправоту в том, что они вернулись к этим "слабым и немощным вещественным началам"! Павел проповедовал им распятого Спасителя как их единственную надежду. Он не говорил ни одному человеку больше ни о чём другом, кроме как о "Христе, и Христе распятом". Насколько же это глупо - снова возвращаться к игу рабства!
Во втором тексте и далее апостол продолжает сопоставлять плоды веры во Христа, который был им проповедан, с "делами закона". "Через дела ли закона вы получили Духа, или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса через дела ли закона [сие производит], или через наставление в вере?" Все эти вопросы были уместными. Что же апостол имел ввидупод "делами закона"? Имел ли он ввиду соблюдение субботы, воздержание от сквернословия, от лжи, от воровства, от убийства, от прелюбодеяния? Или он имел ввиду дела послушания церемониальному закону, который был упразднён? Мы все верим в то, что в Библии нам открывается два отдельных друг от друга "закона". Павел должен был иметь ввиду какой-то один из них. Оба этих закона имели "дела" связанные с ними. Обрядовый закон имел огромное количество таких "дел", и поэтому они и представляли собой "иго рабства", которое невозможно было нести, и которое, по заявлению Павла, было упразднено.
От значения, которое мы придаём выражению "дела закона" зависит многое, когда мы изучаем тему закона в послании к галатам. Смысл этого выражения, где бы оно в Библии ни встречалось, зависит от того, с чем связано это выражение в тексте, и какой темы касается данный текст. Никто из нас не будет отрицать факт существования двух законов, и тот факт, что оба эти закона имеют "дела", связанные с ними. Один и тот же апостол в разных местах Писания рассматривает оба этих закона. Поэтому нельзя делать вывод о том, что в каждом случае, где употребляется выражение "дела закона", оно относится к послушанию закону Божьему. Мы заявляем о том, что, как правило такие ссылки рассматривают другой закон. Какие же дела рассматриваются в этих текстах? Мы имеем следующие причины, по которым мы считаем эти дела обрезанием и другими делами церемониального закона:
1. Этот предмет рассматривался с самого начала послания.
2. Павел не говорит о нравственном законе в предыдущих текстах, но много раз говорит в них о церемониальном законе.
3. Он использует тот же термин в тексте из 2:16, упрекая Петра, потому что он "подвергался нареканию", когда снова принял законы ритуальной чистоты за несколько текстов до этого. В тех текстах ссылки на церемониальный закон неоспоримы. Поэтому он должен был придать это же значение тексту и в этой части послания, придерживаясь своих собственных рассуждений.
4. В вопросе "Через дела ли закона вы приняли Духа", данные слова подразумевают, что когда они приняли Духа, они не исполняли дела закона. И этот вывод был бы совершенно абсурдным, если бы относился к нравственному закону; потому что получается, что они не приняли бы Духа, если бы соблюдали этот нравственный закон. Но данный язык совершенно уместен по отношению к ритуальному закону.
5. Очевидно, что фраза "оканчиваете плотью", или "пытаетесь стать совершенными при помощи плоти" в 3-м стихе обозначает то же самое, что и термин "делать дела закона" во 2-м тексте. Но это выражение было бы совершенно непонятным, если бы относилось к нравственному закону. Десять заповедей не являются "плотскими заповедями". На наш взгляд, данные рассуждения вполне логичны и взаимосвязаны. В 4-м тексте говорится о преследованиях и гонениях за Евангелие. В тексте 6:12 мы видим, что они могли избежать этих гонений при помощи послушания этому же церемониальному закону. Но тогда "соблазн креста" прекратился бы. То есть, в этом случае, если бы они приняли обрезание, то все их преследования перестали бы иметь какое-то значение, и их вера в Евангелие стала бы бесполезной. Обрезание и церемониальный закон были бы "спасительными постановлениями". Смерть Христа не могла бы в таком случае спасти без этих постановлений. К такому выводу они обязательно бы пришли, как показывает Павел, если бы позиция, принятая братьями из Галатии была верной.
Затем Павел говорит об Аврааме, и о том, как вера спасла его. Он не обретал праведности посредством послушания какому-то из этих законов; но только через веру. Ему было проповедано Евангелие, и он уверовал в обещанное Семя. Мы становимся детьми Авраама, подражая ему. Он веровал в Того, Кому предстояло ещё прийти. Мы верим в Того Кто уже пришёл. И таким образом Бог благословит и нас так же, как благословил Авраама. Насколько же глупым был выбор галатийсих братьев, которые были "околдованы" иудействующими учителями, и вернулись к обрезанию, фактически тем самым отвергнув свою веру во Христа!"
Стихи 10 - 14:
"10 а все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона.
11 А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет.
12 А закон не по вере; но кто исполняет его, тот жив будет им.
13 Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою - ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, -
14 дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою."
"А все, утверждающиеся на делах закона (то есть те, кто смотрит на дела закона, о котором он говорит и полагаются на них в вопросе своего оправдания, подобно этим галатам, которые приняли обрезание и все остальное, что с ним связано), находятся под клятвою. Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона." Это проклятие записано в книге Второзаконие 27:26. "Книга закона", которая была помещена "перед ковчегом", или рядом с ним, содержала в себе как нравственный, так и церемониальный закон. Павел не говорит: "а все, утверждающиеся на делах закона десяти заповедей, чтобы исполнять их..." как он непременно бы сказал, если бы Павел имел ввиду здесь только нравственный закон. Всё проклятие относилось к любым и ко всем нарушениям церемониального закона, как и нравственного; потому что так написано в данной книге. Да, действительно, большая часть "книги закона" была посвящена церемониальной стороне, а также гражданским законам иудеев. Невозможно отнести этот язык только к преступлениям одного нравственного закона, потому что мы знаем что "книга закона" включала в себя гораздо больше. Мы не возражаем против высказывания о том, что самые тяжёлые проклятия постигнут нарушителя нравственного закона. Но пока вся "книга закона" оставалась в силе, это проклятие относилось также и к преступлениям церемониального закона. Поэтому для Павла было естественно сказать об этом в его рассуждениях. Если галаты собирались восстановить всю иудейскую систему искупления, что было бы неизбежным результатом их действий по принятию обрезания, то они тем самым навлекли бы на себя проклятие. Они хорошо знали, что они не всегда "соблюдали всё, написанное в книге закона". Вместо того, чтобы получить благословения в их отступлении от веры евангельской, они бы навлекли на себя проклятия, возвращаясь к этому ритуальному закону. " А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет." Термин "оправдание законом" здесь используется в том же значении, что и в тексте из 2:16, где Павел упрекает Петра за отказ есть с уверовавшими язычниками, потому что Пётр тем самым снова принимал то, что было упразднено. Также в тексте из 5:3,4 мы читаем: "Еще свидетельствую всякому человеку обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати". Взаимосвязи этих текстов показывают нам, какой закон он имел ввиду. Галаты возвращались к ветхой, упразднённой системе искупления в вопросе оправдания. Иудействующие учителя говорили им о том, что они не могут быть спасёнными Христом без этого. Они фактически отвергли Христа как своего Спасителя. Они "отпали от благодати". Но Павел говорил о глупости такого выбора. Во вселенной никогда не было никакого закона, который бы оправдывал его нарушителя. "А закон не по вере, но исполняющий его жив будет им". Любой закон, установленный авторитетной властью, требует совершенного послушания, пока он остаётся в силе. Этот принцип касается и морального, и церемониального, и гражданских законов. Но поскольку этого во всей полноте никогда не было сделано, следовательно должно было быть дано другое средство. И Бог даровал такое средство, которое называется "оправдание через веру". Церемониальный закон и система искупления, связанная с ним, никогда не являлись эффективными средствами прощения и оправдания. Кровь тельцов и козлов никогда не совершала искупление за грех. Всё множество церемоний, обрядов, "омовения чаш, плотских постановлений", были даны только "до времени исправления". Насколько же глупо было со стороны галатийцев снова возвращаться и созидать упразднённый закон, чтобы с его помощью обрести оправдание! Это нам кажется главной темой рассуждений апостола.
"Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: "проклят всяк, висящий на древе"". Оригинальное слово, переведённое как "искупил" означает "выкупить", или "освободить". Мы принимаем этот перевод в его полном значении. Наши друзья, настаивающие на том, что предметом данного послания является нравственный закон, основываются прежде всего, по нашему мнению, на этом тексте. Мы хотели бы пойти вместе с ними в этом толковании настолько далеко, насколько это возможно. Мы совершенно готовы принять, что проклятие, о котором идёт речь в этом тексте, и от которого Христос искупил Свой народ, в принципе включает в себя преступление нравственного закона, и что слова "Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный" (Матфея 26:41) относятся к тому времени, когда проклятие от Бога постигнет грешников, не исповедующих веру во Христа, и не принявших таким образом "искупление" от этого проклятия. Но насколько это утверждение несовместимо с позицией о законе в послании к галатам? - Мы думаем, что оно не сильно отдалено от этой позиции.
Для того, чтобы иметь ясное и логичное представление о точке зрения апостола, мы должны иметь ввиду обстоятельства времени и места. Павел совершал своё служение во время перехода от ветхой системы искупления к новой. Но только немногие до настоящего времени понимают, что когда-то совершался подобный великий переход. Они не понимают, что законы, отличавшие Божий народ около 2 тысяч лет должны были теперь прекратить своё существование. Чувства многих людей восставали против этого перехода. По всей видимости, для всей массы иудействующих христиан потребовалось немало времени для того, чтобы принять эту действительность. Они считали, что эти законы всё ещё были актуальными. Они не понимали всего того, что было связано со смертью Христа. Поэтому Бог должен был призвать Павла на особое служение, в качестве особого орудия, и вдохновить его особым образом по этому вопросу, чтобы сделать этот вопрос предельно ясным. Для тех людей рассуждения Павла звучали совсем по- другому, чем для нас сейчас, спустя 18 веков влияния язычества. Они были склонны к пониманию того, что проклятие закона относится также и к тем, кто не проявляет послушание закону Моисея. Кто бы осмелился сказать, что проклятие закона не относится к нарушителям закона Моисеева, содержавшегося в "книге", когда этот закон был ещё в силе? Оно относилось и к таким нарушителям. Но "Христос искупил (буквально "освободил") нас от клятвы закона" "сделавшись за нас клятвою", когда повис "на древе". Какое значение имела бы эта истина для галатийской церкви? - Очень великое значение. Они пытались снять с себя проклятие осуждения, чтобы "спастись" при помощи обрезания, возвращаясь к упразднённому закону Моисея для своего оправдания. Павел сказал им, а также доказал из Писания, что только смерть Христа приносит искупление. Они были полностью неправы в своих предположениях. И данный вывод полностью гармонирует со всеми рассуждениями Павла.
Стих 14. Авраам получил великие благословения через свою веру в обещанное Семя. Мы принимаем те же самые благословения, подражая ему, веруя в Того, Кто уже пришёл, Кто доказал Своё Мессианство, исполнив все условия, обозначенные в Писании. Мы принимаем Духа, принимая Его. Галаты не получили Духа посредством своего послушания закону Моисееву. Они получили Его, когда они уверовали и хранили веру во Христа как в своего Единственного Спасителя.
Стихи 15-19:
"15 Братия! говорю по [рассуждению] человеческому: даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет [к нему].
16 Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано: и потомкам, как бы о многих, но как об одном: и семени твоему, которое есть Христос.
17 Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя четыреста тридцать лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу.
18 Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию; но Аврааму Бог даровал [оное] по обетованию.
19 Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому [относится] обетование, и преподан через Ангелов, рукою посредника."
Здесь апостол впервые говорит о священстве завета, или обетования. Даже человеческое завещание после того, как оно оформлено не может быть отменено. Затем он ссылается на обетование Аврааму, и базирует свои доводы на том, что, давая обещания, Бог использует единственное число вместо множественного, когда говорит об обещанном Семени. Обетование было дано не "семенам" (в множественном числе), но "семени" (в единственном числе), показывая, что данное обетование не было исполнено во всех потомках Авраама по плоти, а что оно должно было быть исполнено в одном Потомке, во Христе как в Наследнике. И это обетование, соответственно, было утверждено Богом, и не может быть отменено при помощи закона, который был дан спустя четыреста тридцать лет. Обетование имеет своё время и свою важность. И это обетование о "семени", то есть о Христе, является основанием нашей надежды на будущее наследство. Наша надежда на это наследство не основывается на том законе, который был дан спустя четыреста тридцать лет. Насколько же глупо, в таком случае, со стороны галатийцев было игнорировать это обетование, и возвращаться к тому закону, связывая с ним надежду на спасение, таким образом отвергая Христа как настоящее основание их надежду на будущие блага. Великий факт того, что Бог даровал наследие посредством обетования Аврааму через его "Семя" за четыреста тридцать лет до того, как был дан закон, на который они смотрели в поисках оправдания, ясно показывает их глупость в том, что они полагались на этот закон.
"Для чего же закон?", то есть для чего предназначен этот закон, о котором он говорит, который является предметом его рассуждений? Какой цели он служит? "Он дан (в английском переводе "добавлен") после по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому [относится] обетование, и преподан через Ангелов, рукою посредника". Данный текст является величайшей и главной истиной, освещающей все рассуждения апостола. Эта истина даёт нам представление о назначении закона, о котором идёт речь, о времени, в которое он был "добавлен", о тех вопросах, которые он затрагивал, о тех средствах, при помощи которых он был дан, и причинах, по которым он был дан. Если все эти критерии можно прямо и естественно отнести к нравственному закону, то в таком случае наши друзья, придерживающиеся данного взгляда в вопросе закона в послании к галатам, имеют явные причины для поддержки этого взгляда. Давайте же внимательно исследуем этот текст, чтобы узнать, какой закон имеется ввиду в этих утверждениях.
1. Разумно будет предположить, что эта ссылка на "закон" будет гармонирует со словами Павла в предыдущих текстах этого письма, которые ясно говорят о церемониальном законе, а не о нравственном законе.
2. Этот закон был дан четыреста тридцать лет после того, как было дано обетование Аврааму. Мог ли он в таком случае быть тем же законом, о котором Бог сказал: "Заповеди Мои, и уставы Мои, и законы Мои", которые соблюдал Авраам? (Бытие 26:5) Те заповеди, соблюдаемые Авраамом, были без сомнения, нравственным законом, и поэтому они не имеют отношения с законом, на который указывает Павел в данном тексте.
3. Этот закон был "добавлен по причине преступлений". Слово "преступлений" согласно оригиналу, означает "нарушений", и тому подобное. Следовательно, этот закон был "добавлен", потому что какой-то другой закон был "нарушен". Этот закон не мог быть "добавлен" к себе самому, по причине того, что его нарушили. Этот вывод был бы абсурдным, если бы речь здесь шла о нравственном законе. Ведь никто из нас не будет утверждать, что какой-то другой нравственный закон начал своё существование после того, как был даны десять заповедей, которого не было раньше. Десять заповедей существовали и раньше, хотя Израиль мог не знать о них во всей полноте. Если бы слово "добавлен" было переведено как "дан" или "назначен", как переводят некоторые переводы, то вывод отсюда был бы таким же ясным. Мы не можем сказать, что нравственный закон был "дан спустя четыреста тридцать лет после Авраама, когда мы видим, что он существовал во время Авраама, и Авраам соблюдал его. Было бы нелепо утверждать, что этот закон был "добавлен" к себе самому. Данные слова подразумевают, что какой-то другой закон вступил в действие по той причине, что прежде существующий закон был "нарушен". Закон не может быть нарушен, если его не существует, ибо "где нет закона, нет и преступления".
4. Закон, "добавленный по причине преступлений" безошибочно указывает на систему искупления, временную по своей продолжительности, действительную "до времени пришествия семени". Нравственный закон - это тот закон, который был "нарушен". Однако "добавленный" закон, о котором говорит Павел, позволял действовать прощению от этих нарушений посредством своих обрядов и образов, до тех пор, пока не была принесена "Настоящая Жертва".
5. "До времени пришествия семени". Эта фраза ограничивает продолжительность действия этой системы искупления, что не вызывает сомнений. Слова "до времени", или "до тех пор" на это безошибочно указывают. "Добавленный" закон должен был функционировать не дольше, чем "до времени пришествия семени". Язык этих фраз прямо провозглашает об этом. Неужели нравственный закон продолжал своё существование до времени пришествия Мессии? Ни один Адвентист Седьмого Дня с этим не согласится. Но что касается другого закона, то всё произошло точно так.
6. "Добавленный" закон "преподан через Ангелов, рукою посредника. Все согласны с тем, что этим посредником был Моисей, который был посредником между Богом и народом. Слово "преподан" имеет значение "предписан", или "обнародован", как сказано Гринфилдом, который цитирует этот текст в качетстве иллюстрации. Правда ли, что десять заповедей были "предписаны", или "обнародованы" через ангелов, или рукой Моисея? Бог Сам произнёс эти заповеди Своим голосом, который потряс землю, и написал их Своим собственным перстом на каменных скрижалях. Но другой закон действительно был дан через Ангелов, и написан в "книге" "рукой Моисея". Если читатель желает самостоятельно увидеть несколько текстов, в которых это же самое выражение используется в ссылках, касающихся "закона Моисеева", мы направляем их к текстам из Левит 26:46, Чисел 4:37, 15:22,23; и особенно Неемии 9:13, 14, где ясно прослеживается разграничение между заповедями, изречёнными Богом, и "уставами, законами и постановлениями", данными "рукой Моисея". Есть также много других текстов на эту тему.
Эти доводы ясно показывают, что закон, о котором говорит апостол, является законом Моисея, записанным в книге, а особенно законом прообразной системы искупления.
Наши друзья, придерживающиеся мнения о том, что этим законом является нравственный закон, конечно же, делают всё возможное для того, чтобы избежать этого вывода. Они утверждают, что закон символов и прообразов существовал задолго до того, как закон был дан на Синае, и что существование этого закона признавалось патриархами, приносящими жертвы, со времени самого Авеля, и что в таком случае необходимо говорить о "предписании" нравственного закона на Синае точно также, как и о "предписании" церемониального закона, поскольку оба закона существовали ранее, и что принципы и природа обоих законов были утрачены по причине греха и Египетского плена. Мы знаем, что эти доводы в большой степени верны. Но всё же остаётся разница: язык данных высказываний безошибочно указывает на систему искупления. "Он был добавлен по причине преступлений". Предыдущий закон существовал, но был нарушен, а данный "добавленный" закон был предназначен к тому, чтобы временно служить искуплению "до времени пришествия Семени". И эти высказывания невозможно применить к нравственному закону, не уступая здравому смыслу; однако к церемониальному закону они применяются легко. Независимо от того, был ли этот закон "добавлен" на Синае, или в Едемском Саду сразу после того, как человек согрешил, тем не менеепрообразная система искупления была "добавлена по причине преступлений", чего нельзя сказать о нравственном законе.
Мы также утверждаем, что прообразная система искупления не была "предписана" перед Синаем, и не имела в умах народа такого значения, какое имел нравственный закон. Мы допускаем, что они приносили жертвоприношения животных, и совершали некоторые другие обряды, которые впоследствии были внедрены в закон Моисея. Но как система это обрядовое служение не было известно и принято в такой степени, в какой были известны принципы нравственного закона. Мы встречаем постоянные ссылки на заповеди нравственного закона, в которых мы видим, как люди показывают своё знание об их существовании. Каин очень хорошо знал о том, что он нарушил Божий закон и был виновен. Авраам "соблюдал" эти "заповеди, постановления и законы". Древние жители Соддома были уничтожены как "грешники", то есть как нарушители этих заповедей. Иосиф точно также как и мы понимал греховность прелюбодеяния, и решил "не совершать этого великого зла против Бога". Енох и Ной были "совершенными" людьми и "ходили с Богом". Поэтому они обязательно должны были быть знакомы с принципами нравственного закона.
Но большая часть прообразной системы искупления обязана своим существованием времени Моисея. Пасха, новолуния, церемонии святилища, наряду с жертвоприношениями, день искупления, пятидесятница, особые постановления о ритуальной нечистоте, посты, праздник кущей, различные постановления о смертной казни, бесчисленное количество постановлений, проистекающих из левитского служения священства и гражданских законов еврейского народа, особые жертвы, связанные с козлом отпущения, и многое другое, что можно перечислять очень долго, было связано с этой системой, и о чём никогда никто не слышал, чего никогда не существовало, прежде чем не была дана книга "закона". Эти все постановления были "предписаны" в это время, как сообщает Павел.
Мы кратко рассмотрим ещё один аргумент, который возник совсем недавно, и направлен против вывода о том, что этот "добавленный" закон был отменён на кресте. Этот аргумент заключается в том, что "семя" ещё не пришло, и не придёт до самого Второго Пришествия Христа. Автору этой книги очень трудно было представить, что какой-то верующий во Христа вообще может принять эту точку зрения, если бы мы не прочли о ней в нашем собственном издании нашей любимой газеты "Знамения времени" за 29 июля 1886 года. В этом номере две или три колонки посвящены серьёзным рассуждениям о том, что выражение "обетование дано было до времени пришествия семени", не может быть исполнено до тех пор, пока не исполнятся обетования, данные Семени. Там цитируется большое количество этих обетований. Но говорят ли об этом высказывания Павла? Пришествие Семени - это одно, а исполнение обетований, данных Семени - совсем другое. Если Семя не должен был прийти до тех пор, пока не исполнятся обетования, данные Ему, то нам придётся ждать пришествия Семени очень долго, потому что некоторые из этих обетований простираются в вечность. "Ибо младенец родился нам (рождение этого Младенца от женщины, а также развитие событий, связанных с Ним, пока не будет принесена жертва за грехи людей, и есть пришествие Семени) - Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века." (Исаии 9:6,7) Обетования, данные этому Семени, многие из них, относятся ко времени далеко за пределами Второго Пришествия, подобно предыдущему, и простираются во всю вечность. Итак, согласно этим рассуждениям, мы должны ждать всю вечность, пока придёт Семя. Но апостол в своих высказываниях не говорит об "обещаниях", но об "обещании", ссылаясь прямо к обетованию, данному Аврааму. Однако в обетовании, данном Аврааму (Бытие 12:1-7, 17: 1-8, оба эти обетования представляют собой одно и то же обетование), он говорит о том, чтобы сделать его и его семя благословением для всех народов земли, и дать ему землю ханаанскую, которую Павел в послании к римлянам (4:13) расширяет до такой степени, что она включает в себя "весь мир".
Разве мы не можем сделать вывод о том, что частично это обетование уже в процессе своего исполнения? Разве мы не можем сказать, что благословение, обещанное "Семени" уже распространяется на все народы земли в виде евангелия, которое открывает путь спасения всем этим народам, испытывающим на себе благословенное влияние Евангелия? Кто осмелится отрицать этот факт? Если же часть этих обетований исполняется уже сейчас, то, согласно рассуждениям самого автора, "Семя" уже пришло. Если мы должны ждать, пока все обетования, данные Аврааму, исполнятся, прежде чем мы сможем увидеть "Семя", то в этом случае "Семя" не может прийти раньше, чем закончится тысячелетний период, потому что до того времени земля не будет унаследована Авраамом. Земля будет пустой, безжизненной пустыней в течение тысячи лет после пришествия Христа. Мы можем считать такую позицию только несостоятельной и абсурдной.
Пришествие "Семени" - это одно, а исполнение обетований после пришествия "Семени" - совсем другое. Прежде, чем какие- то обетования, данные "Семени", могут исполниться, должно состояться пришествие "Семени", это правда. Часть этих обетований уже исполнились; следовательно, "Семя" уже пришло. Павел говорит (стих 16): "И семени твоему, которое есть Христос. "Семя" и Христос - это одно и то же. Поэтому, если "Семя" ещё не пришло, то есть если Христос ещё не пришёл, то мы "ещё во грехах" наших, погибшие, не имеющие надежды. К таким нелепым выводам приводит позиция, изложенная в "Знамениях".
Опять же, если "Семя" не придёт до самого Своего Второго Пришествия, а существование закона не прекратится до этого времени, до времени "пришествия семени", то, если это нравственный закон, то нам необходимо сделать вывод, что Божий закон прекратит своё существование во время Второго Пришествия Христа. А этот вывод будет почти таким же ошибочным, чем все те представления, говорящие о его отмене во время Первого Пришествия Христа. Но с какой целью принята эта неожиданная ошибочная позиция? - Для того, чтобы избежать вывода о том, что "добавленный" закон из послания к галатам (3:19) должен был быть упразднён на кресте. Пришло "Семя", родившееся от жены, пришёл Бого-Человек, приняв нашу природу. Он на протяжении всей вечности уже не сможет стать более соответствующим определению "семя жены", и обетованному "семени Авраама", чем Он является сейчас. Мы хотели бы, чтобы хоть кто-то объяснил нам, как Христос смог бы более соответствовать и уподобиться званию "семя Авраама" при Своём Втором Пришествии, чем был уподоблен этому званию при Первом. Неужели Ему надлежит заново родиться от другого потомка этого великого патриарха? Вся эта точка зрения ошибочна и нелепа. Обетованное "Семя" принесло Свою великую жертву за человечество, посредством которой всё человечество имеет благословение, и тогда же был упразднён этот "добавленный" закон.
Стихи 20-29:
"20 Но посредник при одном не бывает, а Бог один.
21 Итак закон противен обетованиям Божиим? Никак! Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона;
22 но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа.
23 А до пришествия веры мы заключены были под стражею закона, до того [времени], как надлежало открыться вере.
24 Итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою;
25 по пришествии же веры, мы уже не под [руководством] детоводителя.
26 Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса;
27 все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись.
28 Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе.
29 Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники."
В данных текстах апостол продолжает обсуждать этот "добавленный" закон, ссылаясь особым образом на ту цель, которой он должен был достичь. Он не был противен обетованиям Божьим, но был скорее задуман для того, чтобы стать временной помощью для народа до тех пор, пока не наступит "полнота времени", до времени "пришествия семени", когда обетования, начнут исполняться посредством этого "Семени". В течение всего времени, предшествующего пришествию "Семени", это обетование, данное "Семени", было великой надеждой для народа. Закон, который был дан спустя четыреста тридцать лет, дан тем же Богом, который дал и обетование, конечно, не стоял на пути, и не отменял самое славное обетование, данное Богом, Который не может лгать. Этот "добавленный" закон должен был вести к этой же цели, приготавливая умы народа к полноте осуществления обетования. Обетование о том, что все племена земные благословятся в этом "Семени" является величайшей надеждой, которой когда-либо было удостоено человечество. Этот закон был подчинён и содействовал этому обетованию, а вовсе не был "против" него. Не мог быть дан никакой закон, который мог дать жизнь грешному человечеству, которое нарушило Божий закон, нарушило великий нравственный принцип, который всегда был в силе. Это противоречит здравому смыслу. Надежда на обещанное "Семя" является более эффективным средством, чем мог бы предложить любой закон, когда-либо данный людям. Эта надежда была дана людям бесконечной мудростью, чтобы восполнить эту нужду. Несомненно, многие иудеи верили в то, что "жизнь" может быть обретена через послушание этому "добавленному" закону символов, церемоний, жертвоприношений, и кровью, стекавшей ручьём с алтарей. Но они не видели ясно цели этого закона. Они не понимали, что он был всего лишь временной мерой, скрывающей в своих прообразах, символах и аллегориях пришествие "Семени" и Его великую жертву. И даже после того, как Христос пришёл и умер, многие из верующих в Него не могли постичь этого. Они всё ещё говорили: "Если не обрежетесь", и не будете соблюдать "закона Моисеева", то вы "не можете спастись".
Это учение следовало за Павлом повсюду, куда бы он ни направлялся. Бог поручил ему особую миссию, чтобы ясно объяснить этот великий переход от ветхозаветной к новозаветной системе искупления. И сейчас он объясняет этот вопрос галатийским братьям, которых "околдовали" данным учением иудействующих христиан. "Если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона", и отпала бы необходимость в бесконечной жертве Сына Божьего. Эти галатийские братья заняли радикальную позицию, уверовав во Христа, но в то же самое время они впоследствии обратились за спасением к тем обрядам, которые, будь они в силе, сделали бы эту смерть ненужной. Они связывали своё спасение с соблюдением закона, главной целью которого было указать на великую жертву Христа за грех.
"Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа." Пересмотренный перевод и Диаглотт говорят: "закрыло" всех под грехом. Таково значение греческого слова. Все люди - грешники, как иудеи, так и язычники. Все нуждаются в Спасителе. Хотя иудеи соблюдали этот "добавленный закон", и учили этому язычников, считая его необходимым для спасения, всё же они нуждались в Спасителе точно также как и язычники. Насколько же нелепо для галатийцев было возвращение к закону, который не смог спасти тех, кто соблюдал его! "А до пришествия веры мы заключены были под стражею закона, до того [времени], как надлежало открыться вере". Говорит ли этот текст о человеке до его обращения, о человеке, несущем на себе приговор нравственного закона, до тех пор, пока вера во Христа не появилась в его сердце? Или всё-таки этот текст говорит об иудейском народе, о "сродниках" Павла, которые были под попечением, или в рамках временной системы искупления до тех пор, пока Христос не пришёл? От того, какая позиция является истинной, зависит многое. Мы, не сомневаясь, занимаем последнюю позицию. Обновлённый перевод гласит: "Но, прежде, чем пришла вера (дословно "эта вера"), мы содержались под охраной закона, были заключены для веры, которой надлежало открыться позже". Будучи "заключёнными", согласно словаря Вебстера, означает "состояние под охраной, под водительством", или "состояние ребёнка, находящегося под опекой" Диаглотт переводит следующим образом: "А перед пришествием этой веры, мы были под руководством закона, и были заключены вместе для веры, которой вскоре надлежало открыться".
Вне всякого сомнения, данный текст имеет ввиду особо предусмотренное установление, "водительство" для всего народа, "заключение их вместе", или их "огораживание", как говорит греческое слово, до тех пор, пока не настанет время, когда "эта вера" будет открыта. Мы с уверенностью заявляем, что слово "вера" здесь не используется в смысле личных верований и отношений какого-то человека со Христом, как средство прощения его личных грехов. Это слово используется для обозначения этой великой системы истин, данных Богом для спасения человечества - веры в распятого Спасителя и других важных истин, проистекающих из этого центрального факта. Иуда пишет об "общем спасении", взывая к нам, чтобы мы "подвизались за веру, однажды преданную святым" (стих 3-й). Мы говорим о соблюдении "веры Иисуса". Павел в своих заключительных словах сказал, что он "веру сохранил". И в этом же послании, в послании к галатам он говорит о "вере", которую он проповедовал (1:23), а также о "домостроительстве веры" (6:10). И действительно, в большом количестве случаев, где в Новом Завете встречается слово "вера", это слово имеет данное значение, что может увидеть каждый человек, заглянув в подстрочный перевод.
Иудейский народ и все прозелиты, которые имели отношение к Богу евреев, были таким образом заключены под этой временной системой "добавленного" закона, были "закрыты", были скованы барьерами национального различия от остального мира. Они не могли с ними вместе ни есть, ни общаться. "Стена разделения, стоящая посреди" отделяла их от всех остальных. Они были "заключены", связаны по рукам до тех пор, пока великая система веры в распятого Спасителя не была "открыта впоследствии" при помощи пришествия обещанного "Семени".
Мы хотели бы попросить наших друзей, которые утверждают, что это "добавленный закон" представляет собой десять заповедей, чтобы они объяснили нам, как закон, запрещающий богохульство, убийство, ложь, воровство и так далее, как этот закон может кого-то "заключать", или "брать под стражу", чтобы о таком человеке можно было говорить как о ребёнке под присмотром детоводителя, находящемся в таких условиях до какого-то особого "откровения", полученного впоследствии. Но ведь именно эта мысль подразумевается в данном тексте в выражении "под законом", и поэтому она должна относиться к грешнику, находящемуся под осуждением нравственного закона. В поддержку этой точки зрения были даны длинные аргументы; но мы не смогли увидеть доказательств этой позиции. Мы утверждаем, что выражение "под законом" имеет два значения: (1.) Основное значение - "под властью закона", или под обязательством соблюдать этот закон, (2.) Под осуждением закона, что означает наказание, вменяемое нам, либо страдание, которое мы уже переживаем. Само данное выражение не указывает нам, какое значение нам следует выбрать; поэтому этот вопрос должен решить контекст. Греческое слово, переведённое как "под" - это слово "хупо". Оно встречается очень часто в Новом Завете, и в подавляющем большинстве переведено как "от", или "с", или "посредством", как читатель может сам убедиться, заглянув в свой греческий подстрочник. Гринфилд даёт большое количество определений, согласующихся со значением многих текстов, один из которых - "в подчинении закону", и так далее. Он не даёт ни одного случая, где это слово может употребляться в значении нахождения под осуждением закона; всё же мы можем сказать, что иногда это слово употребляется и в таком значении. Но это значение не является основным значением данного слова.
Мы читаем в Матфея 8:9 о "человеке, находящемся "под властью", имея солдат "под ним"", то есть власть была над ним, и он обладал властью над солдатами, каждый из которых должен был слушаться его; нельзя сказать, что он был "под приговором" вышестоящей власти, а солдаты были под его осуждением. "Под" в обоих случаях взято от одного и того же слова - "хупо", что означает "под властью" Бога. В Галатам 4:2 мы читаем о ребёнке, живущем "под ("хупо") наставниками и детоводителями", то есть, они имеют власть над этим ребёнком. Мы не можем сказать, что ребёнок находится под их "осуждением" или "приговором". По этому вопросу можно предоставить и другие иллюстрации. Сама природа этого выражения подразумевает, что "под законом" означает, что этот закон находится над кем-то, имея власть над людьми, находящимися "под ним". Это значение является первым, самым простым значением этого термина. И до тех пор, пока не будут предоставлены более весомые причины, свидетельствующие о каком-то другом значении, нам следует всегда придерживаться такого значения данного выражения.
Когда будет предоставлено достаточно оснований для того, чтобы придать данному выражению значение "осуждения закона" вместо "власти закона", тогда мы будем придавать именно такое значение этому понятию, но не ранее. Однако из текста, который мы сейчас рассматриваем, ясно следует, что иудеи были "заключены" под властью той прообразной системы искупления, со всеми её границами, "стенами разделения", и так далее, до тех пор, пока не открылась система веры, в которой они могли найти спасение.
"Итак закон был для нас детоводителемко Христу, дабы нам оправдаться верою". Слово "итак" означает "поэтому", следовательно, оно соединяет предыдущее высказывание с последующим. Оригинальное греческое слово требует этого, о чём также говорит и Гринфилд. Закон "был (в оригинале "был до настоящего времени"), нашим "педагогос" (согласно греческого оригинала), или воспитателем. Это слово встречается в Новом Завете три раза: два раза в этом контексте, и один раз в другом, когда оно означает "наставник". Гринфилд даёт следующее определение этому понятию: "Человек, обычно раб либо свободный, которому была доверена забота о мальчиках какой-то семьи, который тренировал их, воспитывал в них благородные манеры, смотрел за тем, как они играют, отводил их в школу и приводил их оттуда, и по мере их роста становился их постоянным спутником, которого часто называли властным и суровым. В Новом Завете это руководитель, правитель, наставник, лидер (1Коринфянам 4:15). В иносказательном смысле - закон Моисея (Галатам 3:24,25)".
В нашей системе образования и семьях нет должности, соответствующей данному понятию. Ведь это не просто "учитель в школе", или "наставник" в том смысле, в котором мы привыкли думать об этих людях. Этот человек водил детей в школу, где их обучали другие люди. Этот человек занимал своё положение по отношению к детям только до их совершеннолетия. Это было временное положение и временная власть, которая прекращала своё существование, когда дети становились взрослыми. И эти люди были известны своей властностью и суровостью. Они имели только временную власть над детьми. Неужели святой закон Божий, "закон свободы", занимает подобное положение? Неужели его положение по отношению к человеку и власть над ним похожа на власть над рабом, над младенцем в какой-либо из периодов его жизни? Неужели этот закон "суров", "властен", потому что он наделён временной и незначительной властью? Разве его положение является неким временным положением, длящимся до тех пор, пока христианин не достигнет зрелости, а затем прекращающим выдвигать свои требования? Неужели обязанность "педагогос" после того, как он отводил мальчиков в школу, заключалась в том, чтобы превратиться в их учителя, в их постоянного владыку? Такие представления о том, как закон Божий относится к грешнику или к кому-либо ещё, будут совершенно абсурдными.
Но эта роль совершенно оправдана, если мы относим её к той временной системе искупления, системе закона, в которую евреи и прозелиты были "заключены", были "закрыты" до тех пор, пока "стена разделения" не была "разрушена". Эта система была "суровой", она была "игом рабства", которого они не могли понести, она была "против них", или "противна" им.
Павел делает вывод из своих рассуждений в предыдущих текстах, которые мы рассмотрели. Нравственный закон никогда не приводил никого ко Христу, чтобы затем оставить его. Он всегда остаётся с ним. Мы можем быть избавлены от осуждения этого закона; но его высшая власть при этом будет оставаться такой же, как и раньше. Его требования никогда нас не покидают. В этом законе нет ни единого намёка на Христа, даже самого маленького. Всё, что делает закон - он осуждает тех, кто его нарушает, и оправдывает тех, кто его соблюдает. Ведь ничто иное как чувство вины, давлеющее над совестью человека в результате действия Святого Духа, побуждает его идти ко Христу, а не что-либо, что есть в самом нравственном законе. Однако этот "добавленный закон" вёл ко Христу. Каждый образ, каждая жертва, каждый праздник, каждый святой день, каждое новолуние, все годовые субботы, и все жертвоприношения и церемонии священников указывали на тот или иной аспект в служении Христа. Израиль как народ был "заключён", или "водим" под контролем этого "сурового", "властного" педагога до тех пор, пока великая система оправдания через веру не была явлена на кресте Христовом. Мистер Гринфилд мог ясно видеть, что этот "педагогос" может служить иллюстрацией "закона Моисея". Было бы странно, если кто- то был бы не в состоянии этого увидеть.
"По пришествии же веры, мы уже не под [руководством] детоводителя ("педагогос")". Пришествие "этой веры" - это полное развитие великой системы веры или истины, которая открывается нам посредством смерти Христа. "Мы уже не под руководством "педагогос"", то есть уже не находимся в его власти. Он уже больше не владеет нами, потому что его власть прекратила своё существование с пришествием "Семени". В таком случае все, принимающие Христа в Его истинной роли и характере, являются детьми Божьими. Они "крещены во Христа", и поэтому "во Христа облеклись".
Какой же вывод делает Павел после упоминания об этих великих истинах? "Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе." Все национальные и социальные барьеры рушатся в присутствии свободы, которая во Христе Иисусе; перед Богом все равны. Гордый иудей должен прийти к Богу через Христа, точно также как и презираемый варвар. Женщины не должны уже больше быть отделены в обособленные группы решением каких-то собраний, потому что в глазах Бога мужчина также ценен, как и женщина. Бедные рабы могут прийти к благословенному Спасителю также свободно, как и их величественные господа, владеющие ими. Всё, чего Бог сейчас требует - это смиренное сердце, покаяние и исповедание греха, вера в драгоценную кровь Христа, и решение служить Богу и исполнять все Его повеления; и Бог смотрит на все классы и прослойки людей одинаково.
Для нас, живущих спустя 18 столетий после того, как эти проблемы национальных и социальных различий были устранены, эти истины являются настолько ясными, что для их провозглашения не нужно много слов и сил. Но в то время, когда Павел провозглашал эти истины, они вызывали такую горькую ненависть в умах высокомерных иудеев, о которой мы можем только догадываться. Поэтому-то они и следовали за ним повсюду, желая его смерти. Иудеи и не думали расставаться со своим превосходством, которое они так долго сохраняли. Греки и Римляне также возвышали себя, считая себя особым, высоким и заслуженным народом. Они нуждались в этой великой истине как в то время, так и в будущее время, ибо только эта истина может смирить их гордость, кастовость и всякие социальные разграничения.
Великая истина о всеобщем равенстве перед Богом является ясным выводом рассуждений апостола. Отвергать это означает обвинять его в том, что он вдруг стал говорить на другую тему, не относящуюся к обсуждаемому вопросу. Но могут ли наши друзья объяснить нам, каким образом эта великая истина, этот величественный вывод может проистекать из этих рассуждений, если предметом этих рассуждений является нравственный закон? Неужели этот закон, в его простых требованиях к грешнику, создавал национальные различия между иудеем и греком, свободным и рабом, мужчиной и женщиной? - Определённо, нет. Но церемониальный закон создавал эти разграничения. Потому что именно он разделял этот народ посредством обрезания и всего того, что с ним было связано. "Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники." Мы имеем в этих словах ещё один важный вывод, проистекающий из данных рассуждений. Эти бедные галаты были убеждены в той опасной ереси, в которую верило множество других людей, думая, что им "должно обрезываться" и "соблюдать закон Моисеев" для того, чтобы быть "семенем Авраама". Они были уведены в "другое евангелие". Но Павел в своих рассуждениях показывает, что вера во Христа как в обетованное "семя" Авраама сделает их настоящими наследниками Авраама, согласно истинного значения обетования, данного ему. И поэтому обрезание и "закон Моисеев" перестали быть обязательными. Они уже были не "под ними".
Глава 4:1-11:
"1 Еще скажу: наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего:
2 он подчинен попечителям и домоправителям до срока, отцом [назначенного].
3 Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началам мира;
4 но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от жены, подчинился закону,
5 чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление.
6 А как вы - сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: "Авва, Отче!"
7 Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа.
8 Но тогда, не знав Бога, вы служили [богам], которые в существе не боги.
9 Ныне же, познав Бога, или, лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им?
10 Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы.
11 Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас."
В первых текстах этой главы апостол снова говорит о временной природе этого "добавленного закона", как он делал в текстах, упоминаемых ранее. Он иллюстрирует этот вопрос примером с наследником, который, пока остаётся ребёнком, занимает такое же положение, что и раб. Он подчинён попечителям и домоправителям до тех пор, пока он не достигнет зрелости, пока он не сможет как свободный человек пойти и делать то, что подобает делать тем, кто достиг определённого уровня зрелости. "Он подчинен попечителям и домоправителям до срока, отцом [назначенного]. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началам мира". И это продолжалось до тех пор, пока не пришла "полнота времени", пока не настало время, когда "Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных." Здесь мы встречаем определённые выражения, которые имеют очень важную роль в вопросе закона в послании к галатам. В иллюстрации Павла мы видим еврейский народ, который был "подчинён вещественным началам мира" точно также как дети были "подчинены попечителям и домоправителям" до тех пор, пока не пришла "полнота времени". Этот момент времени является тем периодом, в который Христос "подчинился закону, чтобы искупить подзаконных", о которых говорилось в предыдущей главе. Очевидно, что находиться в подчинении "вещественным началам мира", и быть "подчинённым закону" - это одно и то же. Использование апостолом слова "мы" также имеет большое значение, поскольку этим словом Павел ссылается на себя и на свой народ, предшествующий наступлению "полноты времени". Когда же он обращается к галатам, он везде говорит "вы". Тот же, кого он называет словом "мы", был в состоянии детства, или отрочества, был в подчинении "вещественным началам мира" до тех пор, пока не пришла "полнота времени", чтобы "нам получить усыновление". Они не могли получить это полное "усыновление" до тех пор, пока не пришло обещанное "Семя". Затем, когда они стали принадлежать Христу, они были приняты в качестве сонаследников Авраама, как часть его "семени".
Что же это за "вещественные начала мира", о которых говорит апостол, под властью которых они находились до тех пор, пока Бог не послал Своего Сына, подчинившегося закону? Являются ли этими "началами" десять заповедей, закон свободы, святой и чистый закон, который будет основанием на суде? По нашему мнению, этот вывод совершенно неприемлем. Мы заявляем с великой уверенностью о том, что этот термин "начала" говорит о другой системе. Это греческое слово получило определение Гринфилда, звучащее так: "Элементарные инструкции, первые принципы, самый низкий уровень в познании, науке, и так далее. Это слово переведено как "основы" в пересмотренном переводе и в Диаглотте. Это же самое слово встречается в тексте из послания Колоссянам (2:20), где оно переведено как "основы" (на русском "стихий"): "Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений: "не прикасайся", "не вкушай", "не дотрагивайся"" и так далее. Эти слова записаны сразу же после рассуждений об "истреблении учением бывшего о нас рукописания, которое было против нас" и о том, что "Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту", а также после призыва: "Итак никто да не осуждает вас за пищу, или питие, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу: это есть тень будущего, а тело - во Христе." Совершенно очевидно, что апостол в послании к колоссянам, говоря о "стихиях мира" (то же самое выражение, что и "вещественные начала мира" в послании к галатам), ссылается на вопросы, связанные с церемониальным законом. Он также утверждает, что их пребывание "под" этими "стихиями", или "началами", привело их в "рабство".
Этими "стихиями" несомненно названы атрибуты закона, о котором Павел говорит в послании к галатам (5:1,2): "Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот, я, Павел, говорю вам: если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа." Также апостол Пётр, говоря о законе в книге Деяний (15:10), на том же знаменитом соборе, задав вопрос: "Что же вы ныне искушаете Бога, [желая] возложить на выи учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы?" говорил, как всем известно, о законе Моисея, включающем в себя обрезание и всё остальное. Об этом же говорится и в послании к колоссянам (2:14): " истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту". Во всех этих текстах говорится о законе, который имеет временную природу, о бремени, о рабстве, и о такой системе, которая отличается от свободного спасения через Христа. В них говорится о церемониальном, а не о нравственном законе.
Всеобщее состояние "под" этими "стихиями" и "началами" не может указывать на индивидуальный опыт людей. Оно должно быть состоянием, в котором находились все до тех пор, пока не пришла "полнота времени", и Бог не послал Своего Сына. Было бы слишком нелепо утверждать, что каждый человек в своём греховном состоянии, находясь под осуждением нравственного закона, должен оставаться в этом состоянии до тех пор, пока не настанет "полнота времени", и пока Бог не пошлёт Своего Сына, подчинившегося закону. Это выражение о полноте времени говорит о пришествии Христа как Мессии; но это же выражение весьма применимо, когда мы говорим о состоянии израильтян перед тем, как им было проповедано Христово Евангелие. Они были в положении детей, находясь под властью элементарных инструкций, ожидая полноты времени, когда Бог пошлёт Своего Сына с великим светом. Их "начала" заключались в образах и церемониях, указывающих на время, в которое Бог пошлёт Своего Сына.
Эти тексты Писания мы считаем во многих отношениях параллельными с утверждением в предыдущей главе, где говорится о "добавленном" законе, который должен был быть актуальным "до времени пришествия семени", а также с утверждением в 23-м стихе 3-й главы, где сказано: "А до пришествия веры мы заключены были под стражею закона, до того [времени], как надлежало открыться вере."
Когда же время этих постановлений пришло к своему завершению, когда настала "полнота времени", когда временное сменилось на постоянное, образы сменились на реальность, "детское" сменилось "взрослым", когда стена разделения была разрушена, и все могут быть "одним" во Христе Иисусе, быть детьми Божьими, быть семенем Авраама, принимая статус сыновей Божьих, и Бог даёт им особое свидетельство в излитии Своего Духа. Они уже не являются рабами, подвластными тем временным инструкциям, но наследниками Божьими через Христа.
В 4-м стихе, где Павел говорит о Боге, пославшем Своего Сына, рождённого от жены, мы имеем выражение "подчинился закону". Мы уже рассматривали значение этого термина "под законом", и ясно показали, что он не всегда означает "осуждение закона" но скорее "власть закона", или обязательство его соблюдать. И здесь данный термин очевидно имеет такое же значение. Пересмотренный перевод, а также Диаглотт переводят эту фразу как "совершенный под законом", или "родившийся под законом". Гринфилд, давая определение этому оригинальному слову, имеющему множество значений, цитирует использование этого слова в четвёртом тексте, где оно имеет значение "подчинённый закону". Очевидно, что данное значение и является тем значением, в котором эта фраза должна использоваться. Мы не можем сказать, что наш Спаситель родился под осуждением закона Божьего. Это будет чистым абсурдом. Мы признаём тот факт, что Он добровольно взял на Себя грехи всего мира, и принёс Свою великую жертву на кресте. Но Он не рождался с этим осуждением. Сказать такое о Христе, который был чист, который никогда не совершил никакого греха в Своей жизни, сказать о том, что Он родился под осуждением Божьего закона, означает произвести вопиющее искажение всякой теологии.
Однако насколько красноречиво это относится к фактам Его жизни, если мы имеем ввиду Его "подчинённость закону" Моисея. Он родился евреем, был обрезан в восьмой день жизни, его родители прошли все обряды очищения согласно закону Моисея. Они привели ребёнка в храм как своего первенца, как и требовал этот закон, и принесли в жертву голубей и горлиц. Иисус жил в подчинении всем церемониям и постановлениям закона Моисеева, как и все остальные евреи. Таким образом Он "родился под законом", и был подчинён ему. Всю Свою жизнь Он старался соблюдать все эти постановления, и никогда не позволял Своим ученикам нарушать их до самого дня Своей смерти. Он даже отказался особым образом трудиться для язычников, потому что Он был "послан к погибшим овцам дома Израилева". Мы ясно видим, что Он был "подчинён закону", то есть подчинялся его требованиям также, как и другие, чтобы "искупить подзаконных". Он "пришёл к своим, и свои Его не приняли". И мы можем быть уверенными, что если бы они приняли его, то для них были бы предусмотрены такие средства, посредством которых эта нация была бы чрезвычайно возвеличена, и все язычники принимали бы от них познания о Христе как от особого Богом признанного народа. Но они отвергли Его, и тем самым сделали язычников ещё свободнее в их доступе ко Христу, чем они были ранее. Итак, в утверждении о том, что Христос "подчинился закону", мы видим великое значение, которое заключается в том, что Он подчинился требованиям этого закона.
Бог почтил еврейский народ, отделив их от мира посредством особых постановлений, которые символизировало обрезание, и имел целью, чтобы истинные дети Христовы пришли к Нему с их помощью. Он доверил им величайший свет, которого не был удостоен никакой другой народ, чтобы они уже не имели никаких извинений и причин, препятствующих им быть возвышенными Богом, если они примут Мессию. Его величайшим желанием было избавить от греха тех, кто был "под этим законом", или был подчинён этому закону. Таким было также и желание Павла, который был готов даже отдать свою жизнь, если бы это спасло его "сродников", его собственный народ. Но в своём упрямстве, исключительности и самовозвеличивании как единственного Богом избранного народа, они потеряли благословения, которые они бы получили, смиренно приняв Христа. Все эти "начала", или "стихии", все познания, которые они имели в обрядах церемониальной системы, указывали им на драгоценные благословения, которые пришли бы к ним через познание и принятие Сына Божьего.
Выражение "под законом" в 4-м стихе, очевидно, используется в том же самом значении, что и выражение "попечители и домоправители" во 2-м стихе. Находиться под властью "попечителей и домоправителей" не означает находится под их осуждением, или под их гневом, или под их наказанием. Ни в коем случае. Это значит находиться под их защитой, водительством, властью и так далее. Итак, Христос "был рождён", под законом (то есть был подчинён закону) в том же смысле, что и эти люди были под властью "попечителей и домоправителей" Это же значение имеется ввиду и в тексте из 3-й главы, 23-го стиха: "А до пришествия веры мы заключены были под стражею закона", то есть подчинены ему, пока не пришло время Христа. Апостол иллюстрирует их прошлое состояние подчинения церемониальному закону, сравнивая его с состоянием ребёнка, находящегося под властью "попечителей и домоправителей". Эта иллюстрация и является самым веским доказательством верности нашей позиции, позиции о том, что термин "закон" в послании к галатам означает церемониальную систему, и не может означать нравственный закон. Язык таких выражений, как "стихии мира", "слабые и немощные вещественные начала", к которым галаты желали вернуться, и которым они служили, - совершенно несовместим с законом Божьим, который является "духовным", "святым, праведным и добрым".
После того, как апостол в 1-м тексте данной главы говорил о состоянии Божьего народа, предшествующего явлению Христа, в 6-м тексте он уже переходит к галатам, которым он и пишет данное письмо. Они обратились некогда ко Христу, стали "сыновьями". Бог послал Своего Духа в их сердца, чтобы они могли воскликнуть "Авва, Отче!" Они перестали быть рабами и не должны возвращаться к старой временной системе. Поэтому их курс, которым они пошли под влиянием иудействующих учителей был совершенно неприемлем. Они уже были наследниками Божьими через Христа, когда приняли Евангелие. В стихах с 8-го по 11-й мы имеем интересный аргумент, который заключается в следующем: "Но тогда, не знав Бога, вы служили [богам], которые в существе не боги. Ныне же, познав Бога, или, лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас." Мы утверждаем, что этот язык является очень сильным доказательством истинности нашей позиции, и поэтому совершенно несовместим с позицией наших друзей о том, что данный "закон" является законом Божьим. Однако для того, чтобы обойти этот аргумент, наши друзья утверждают, что "немощные вещественные начала", а также соблюдение "дней, месяцев, времён и лет" относится к языческим обычаям, а не к постановлениям церемониального закона. Мы не можем принять такую точку зрения, потому что не считаем её истинной. Язык данного отрывка ясно показывает, что данные люди, о которых идёт речь в послании, какое-то время в прошлом поклонялись другим богам. Мы признаём этот факт. Мы также признаём, что некоторые из галат принадлежали к этому классу людей. Но эти факты ни в коем случае не делают обязательным тот вывод, который наши друзья делают на основании этих текстов.
Наша позиция заключается в том, что данные люди, которым было написано в послании, были прозелитами. Мы представляем краткое обоснование данной позиции, чтобы прояснить её. Ни один из разумных исследователей истории не будет отрицать, что во время первого пришествия Христа, а также в течение предыдущего поколения еврейский народ прилагал самые ревностные усилия к тому, чтобы обратить язычников в свою веру. С самого времени вавилонского пленения они были рассеяны по всем народам вокруг Палестины. Эти люди были предприимчивыми и находчивыми, какими они были всегда. Вряд ли какая-то другая нация могла бы выдержать все те преследования и ненависть, которые пришлось вынести им, и всё же остаться отдельным народом, каким евреи являются почти во всех уголках мира. Сравнительное небольшое количество людей вернулось из плена в Иудею, чтобы сделать эту землю своим домом. Огромное количество народа приходило почти с каждого уголка Римской Империи на праздники, так что вокруг святого города и в нём самом располагалось более миллиона паломников. Пожалуй, не найдётся такого народа, с которым евреи не имели бы каких-то общих дел или торговли. Их синагоги были установлены в больших городах. Любой читавший Деяния Апостолов, знает, что в каждом крупном городе, в котором трудился Павел, он с самого начала отправлялся в синагогу. Эти синагоги, безусловно, были построены среди людей, живших в идолопоклонстве, учение которого, а также их религиозные системы поклонения были совершенно бессмысленными и нелепыми. Многие из более-менее разумных людей были привлечены в эти еврейские синагоги, и посещали их для того, чтобы познавать истинного Бога.
В этом очевидно заключается одна из величайших причин, по которой Бог допустил, чтобы этот народ был рассеян по всем этим странам. Он поселил их в земле Палестины, которая была мостом, или открытым путём, по которому осуществлялось сообщение между странами и торговля между Египтом, Ассирией и другими народами земли. Это было сделано для того, чтобы Его закон мог просвещать людей в этом мире. Когда израильтяне отправились в плен, убедившись в том , что их идолопоклонство и пренебрежение Божьим законом навлекло на них гнев Божий, они стали более ревностными, и уже никогда не предавались идолопоклонству; и поэтому, будучи рассеянными по всем народам мира, они приготовили путь для пришествия Мессии.
Нет никаких сомнений в том, что евреи привлекали прозелитов. Наш Спаситель сказал о них: "Вы обходите море и сушу, чтобы обратить хотя бы одного" (Матфея 23:15). Эти слова открывают нам сильный интерес и старание, которое они проявляли, стремясь изменять людей в соответствие с их представлениями и взглядами. Причину этому можно увидеть сразу, если мы подумаем об их рассеянии по всем народам, и их жизни, зависящей от милости окружающих их язычников. Они естественным образом желали, чтобы об их религии у язычников складывалось только хорошее мнение, и были в этом заинтересованы. Некоторые из них привлекали людей в свою религию ради сохранения своей жизни. Так или иначе, эгоистичные мотивы явно двигали теми, о ком говорит Спаситель, потому что они делали прозелитов "детьми геенны", вдвое худшими самих себя. Их успех в обращении людей открывается нам из многих текстов Священного Писания. Даже некоторые из выдающихся людей, подобно царице Савской из ветхозаветной истории, и вельможе Кандакии в новозаветной истории (Деяния 8:27), были представителями царских сословий, обращёнными в иудаизм. Конибер и Хоусон в книге "Жизнь и послания апостола Павла" говорит о размахе этой деятельности по привлечению прозелитов следующее:
"Во время Маккавеев некоторые языческие племена были убеждены перейти к евреям. Так происходило с итурианцами и, возможно, с моавитянами, но больше всего с эдомитами, с именем которых исторически связана семья Ирода. Насколько далеко иудаизм распространился среди большого собрания племён под названием аравитяне, мы можем только догадываться из любопытной истории с гомеритами и из действий таких вождей, как Арета (2 Коринфянам 11:32). Но если мы отправимся на запад и на север, в хорошо известные страны, мы не будем иметь недостатка в доказательствах нравственного влияния синагог с их поклонением Иегове и с их пророчествами о Мессии". Встречается много случаев в книге Деяний Апостолов, где мы видим те же самые свидетельства.
Николай Антиохиец, один из семи дьяконов, был прозелитом (Деяния 6:5). Огромное количество эллинов посещали богослужения в Иерусалиме, многие из которых, очевидно, были прозелитами. В книге Деяний (13:50) мы читаем: "Но Иудеи, подстрекнув набожных и почетных женщин и первых в городе [людей], воздвигли гонение на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов." Все эти перечисленные люди скорее всего были из того же класса. Тимофей был настоящим прозелитом, и, вне всяких сомнений, апостолы в основном обращались к бывшим язычникам, используя тот интерес, которые многие из язычников проявляли к богослужению в синагогах. Так происходило почти в каждом городе, в который они приходили. Те прозелиты были двух классов, в чём можно убедиться из Словарей или из Большого Подстрочного Перевода Крудена. Один класс прозелитов, называемый "прозелитами по праву", был классом людей, которые полностью приняли учение иудеев, обрезывались, приносили жертвы, и так далее, согласно закону Моисея. Но гораздо более многочисленный класс прозелитов назывался "прозелитами вне закона", поскольку они просто любили Бога и Библию, и соблюдали моральные принципы её учения, отделяя себя от языческих обычаев, поклоняясь истинному Богу. Такие люди, как Корнилий, сотник, и многие другие во всех частях языческого мира, где только была известна иудейская религия, принадлежали данному классу.
Смитт, его "Полный библейский словарь", Конибер и Хоусон, Барнс и его "Заметки", и другие согласны с тем, что большое количество иудеев поселились в Галатии за столетие или два до времён Павла, и поэтому вся эта страна ознакомилась с иудейским учением и библейской религией. Имея ввиду их общность с прозелитами в других частях страны, считая их братьями, мы без сомнения можем считать, что большое число этих прозелитов были "прозелитами вне закона", и были готовы к служению Павла, и они находились в числе тех, кто принял евангелие с великой радостью. Они в одно время, как говорит 8-й текст, "служили богам, которые в существе не боги", то есть, имели какое-то познание о Боге, но не отождествляли себя полностью с иудейскими обычаями и обрядами. Однако они относились к этим постановлениям с уважением и в определённой степени оставляли идолопоклонство.
Конибер и Хоусон утверждают, что прозелиты такого типа в больших количествах были рассеяны по всей Римской Империи, особенно в странах вокруг Сирии и близлежащих государств. Они пишут: "Под этим термином мы сейчас подразумеваем всех тех, кто был в разной степени привлечён к иудаизму, начиная от тех, кто посредством обрезания получил полный доступ ко всем привилегиям храмового служения, до тех, кто только выражал общее уважение к религии Моисея, и посещал синагоги в качестве слушателей. Многие прозелиты были привлечены к иудейским сообществам в местах своего обитания" (стр 28). Доктор Кларк, в своём комментарии на послание к галатам, несколько раз говорит о том, что среди учеников-христиан было много прозелитов. Он говорит: "Иудейская религия была распространённой в галатийской местности, и была уважаемой религией. По- видимому, жители этой местности в основном были либо иудеями, либо прозелитами." И снова он пишет: "Иудаизм был популярной религией, и чем больше обращённых имели эти ложные учителя, тем больше причин они имели для того, чтобы хвалиться. Они желали, чтобы эти люди, обратившиеся в христианство, которые были до этого "прозелитами вне закона", принимали обрезание, чтобы «хвалиться в их плоти». "Вот мои обращённые!" - так они хвалились и тщеславились, радуясь не тому, что люди обращались к Богу, а тому, что люди принимали обрезание". Большое количество этих прозелитов без сомнения приняли евангелие от Павла, и возрадовались свободе этого евангелия, и Дух Божий побуждал их восклицать: "Авва, Отче!"
Но после того, как Павел отлучился, иудействующие учителя пришли со своим обычным "бременем": "Если не обрежетесь", и "не будете соблюдать закон Моисея", "не можете спастись". Это наполнило сердце Павла великой печалью, потому что, как мы видели, он постоянно сталкивался с этой проблемой с самого момента своего обращения, и несколько раз фактически чуть не лишился жизни из-за этого горького духа, дышащего исключительностью. Поэтому он пишет своё письмо галатам, призывая их внимание к этим фактам, говоря: "для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им?"
Нашим друзьям придётся сильно постараться избежать вывода о том, что эти "немощные и бедные вещественные начала" относятся к церемониальному закону. Однако мы, опираясь на здравый смысл, не можем прийти к какому-то другому выводу. Эти "начала" явно означают то же самое, что и "стихии", под властью которых находился Божий народ, упомянутый в третьем тексте. Ложные учителя привели галат к тому же рабству, о котором говорится в пятой главе, где апостол умоляет их не "подвергаться игу рабства", как они подвергались бы, принимая обрезание, и тем самым "не имея никакой пользы от Христа".
Здесь явно имеется ввидуто же самое "иго", о котором говорит Пётр в 15-й главе книги Деяния, когда рассматривался этот вопрос. В данном послании апостол не говорил ни слова о языческих обычаях, или о языческих обрядах, либо о языческом поклонении, или о чём-либо подобном; он просто ссылался в предыдущем тексте на тот факт, что они когда-то были язычниками. Это, конечно, было правдой в их случае, если мы вспомним о том, что они были прозелитами. Но он постоянно от начала и до конца послания ссылается на систему Моисея, на обрезание и так далее; мы не можем предполагать, что Павел был настолько нелогичен, что он стал вдруг говорить о чём-то совершенно отличном от темы его письма, которую он постоянно раскрывал галатам.
Связь этих "стихий мира", этих "бедных и немощных вещественными начал", в рабство которых галаты желали вернуться, с церемониальным законом является важной связью в его наставлениях. Не возникает никаких вопросов по поводу того, что наша позиция верна. Доктор Шафф в своих комментариях относительно этих "стихий" говорит: "По моему мнению, это выражение относится в любом случае только к иудаизму, особенно к закону (апостол Павел не мог объединить язычество и иудаизм воедино, ставя их тем самым на один уровень)". Мы верим в то, что наши друзья, которые порой относят эти "стихии" частично к язычеству, должны хорошенько пересмотреть свою позицию.
Доктор Кларк употребляет выражения "Стихии мира" и "начала и принципы иудейской религии". Он также говорит, что "бедные и немощные вещественные начала представляли собой церемонии закона Моисея". Доктор Скотт занимает такую же позицию. Поэтому попытка применить эти термины к закону, названному Богом "совершенным", "духовным", "святым, праведным и добрым", будет не намного лучше богохульства. Тем более, нет никаких разумных причин применять эти термины к языческому идолопоклонству, поскольку эта тема вообще не рассматривается в рассуждениях апостола, изложенных в данном послании. Но данные выражения всячески согласуются с тем языком, который апостол применяет в отношении церемониального закона.
"Соблюдаете дни, месяцы, времена и годы". Об этом же Павел говорит в послании к колоссянам (2:16), прямо перед тем, как говорить о "стихиях" в 20-м стихе. "Итак никто да не осуждает вас за пищу, или питие, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботы" и так далее. Галаты под влиянием иудействующих учителей становились полностью погружёнными в эти ветхие тени и образы, указывающие на Христа, и это всё после пришествия Самого Исполнения этих образов. Таким образом они буквально отвергали Христа, потому что, соблюдая этот символизм, они тем самым провозглашали о том, что Христос как его Исполнение ещё не пришёл. Неудивительно, что Павел говорит им: "Боюсь, не напрасно ли я трудился у вас". Мы заявляем о том, что это объяснение является единственным разумным объяснением данного высказывания Павла.
Но как можно приписать эти выражения нравственному закону? Можем ли мы говорить о том, что эти "дни", которые они соблюдали, вызывая тревогу у Павла, были субботами Господними? Этот вывод очень понравился бы антиномианистам, потому что именно такие тексты они пытаются отнести к десяти заповедям. Поэтому наши друзья оказали бы им немалую помощь и поддержку. Использует ли Павел термин "бедные и немощные вещественные начала" для описания нравственного закона? Очевидно то, что галаты пытались вернуться к соблюдению чего-то, и к тому же вернуться в рабство. Было ли это послушание послушанием закону Божьему? Они соблюдали нечто, то есть, старались исполнять "дни, месяцы, времена и годы". Это однозначно относится не к моральному закону. Мы знаем, что наши друзья будут относить эту фразу к языческим обрядам и церемониям, и таким образом пытаться исключить всякую связь этих слов с темой всего послания, но это просто недопустимо, как мы уже выяснили. Павел упрекает этих людей за послушание тому, чему они не должны быть послушными. Он не говорит об их оправдании своими добрыми делами, когда они стараются не обманывать, не красть, не убивать и так далее. Он говорит совсем не об этом. Он определённо говорит о возвращении к закону, который был отменён.
Стихи с 12-го по 20-й:
"12 Прошу вас, братия, будьте, как я, потому что и я, как вы. Вы ничем не обидели меня:
13 знаете, что, [хотя] я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз,
14 но вы не презрели искушения моего во плоти моей и не возгнушались [им], а приняли меня, как Ангела Божия, как Христа Иисуса.
15 Как вы были блаженны! Свидетельствую о вас, что, если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне.
16 Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину?
17 Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них.
18 Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас.
19 Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос!
20 Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас.
(Гал.4:12-20)
Сейчас Павел придаёт особую силу своему обращению, сообщая им о своих слабостях, искушениях, о своём посвящении служению им, и о своей плодотворности в труде для них. Он обращается к ним лично от себя, умоляя их с любовью вернуться к их прежнему отношению к тем иудействующим учителям, которые искажали истину, находясь среди них. Галаты когда-то так любили Павла, что были готовы «отдать ему свои глаза», но под влиянием этих учителей они потеряли свой интерес к нему. Он говорит об этих учителях в 17-м тексте: "Ревнуют по вас нечисто", или, как мы читаем у Диаглотта, "Они проявляют свою любовь к вам, но проявляют её нечестно". Здесь раскрывается мысль о том, что эти учителя показывали галатам свою льстивую и притворную любовь, желая переключить симпатию этих учеников на себя, и тем самым оставить Павла за пределами своих симпатий. По всей видимости, они добились успеха. Но Павел рассуждает с ними, желая показать им, как сильно он за них страдал, призывая их вернуться к истине. С этим призывом он обращается ко всем тем, кого он вывел из рабства посредством своего самопожертвования. Они когда-то были готовы вырвать свои глаза и отдать их ему, но сейчас они относились к нему почти как к врагу из-за коварного влияния этих иудействующих учителей, которые следовали за Павлом всюду с одной-единственной целью: сделать его жизнь невыносимой. Можете ли вы поверить в то, что эти лицемерные учителя настойчиво пытались убедить этих галат воздерживаться от убийств, от нарушения субботы Господней, от прелюбодеяний, от зависти и так далее? Пожалуй, никто не мог бы поверить в эту нелепость. Однако эти учителя и на самом деле пытались склонить галат к каким-то действиям. И эти действия были не просто какими-то умственными заключениями о том, что они оправдываются послушанием десяти заповедям, которым их учили. Во всей Библии нет ни малейшего намёка на то, что эти учителя имели подобные намерения. Они пытались возвеличить эту систему Моисея, которая поддерживала их исключительность и делала их особым народом на земле. Они желали снова вернуть то иго рабства, которое было отменено на кресте. Павел был «в великом смущении» насчёт этих учеников из Галатии, когда узнал об их намерениях. Его душа мучилась под бременем переживаний за них, которые не прекратились бы до тех пор, пока они снова не приняли бы Христа полностью, оставив систему теней и образов позади.
Стихи 21-31.
"Скажите мне вы, желающие быть под законом: разве вы не слушаете закона? 22 Ибо написано: Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. 23 Но который от рабы, тот рожден по плоти; а который от свободной, тот по обетованию. 24 В этом есть иносказание. Это два завета: один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь, 25 ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве; 26 а вышний Иерусалим свободен: он - матерь всем нам. 27 Ибо написано: возвеселись, неплодная, нерождающая; воскликни и возгласи, не мучившаяся родами; потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. 28 Мы, братия, дети обетования по Исааку. 29 Но, как тогда рожденный по плоти гнал [рожденного] по духу, так и ныне. 30 Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. 31 Итак, братия, мы дети не рабы, но свободной."
Глава 5, стихи 1-5:
"Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. 2 Вот, я, Павел, говорю вам: если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. 3 Еще свидетельствую всякому человеку обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. 4 Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, 5 а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры."
"Скажите мне вы, желающие быть под законом: разве вы не слушаете закона?" Здесь мы имеем выражение "под законом", которое встречается ещё раз. Мы уже рассматривали эту фразу, и выяснили, что в послании к галатам она используется для указание на подчинение закону, на пребывание под его властью. Но один из наших друзей, которые очень сильно воодушевлены идеей о том, что в послании к галатам речь идёт о нравственном законе, идёт ещё дальше, заявляя о том, что в каждом случае применения этой фразы она обозначает "состояние осуждения или приговора", то есть состояние, при котором приговор закона нависает над чьей-то головой. Это наказание представляет собой вторую смерть в "геенне огненной". Согласно этого представления, мы делаем вывод о том, что галаты желали находиться в этом состоянии вины, которое постоянно напоминало им об огненном озере. "Скажите мне вы, желающие быть под законом..." Эта характеристика означала бы "Скажите мне вы, желающие быть под осуждением и приговором закона", или "Скажите мне вы, желающие быть под приговором второй смерти". Мы знаем многих людей, имеющих странные желания, но никогда ещё не встречали тех, кто желает второй смерти. Но если следовать этой логике, и тому представлению, что этот закон является нравственным законом, все эти фразы "под законом" означают под осуждением этого закона, и в этом случае мы просто не сможем избежать данного вывода. Однако мысль об этих новообращённых христианах, желающих погрузиться в состояние осуждения, приводящего к такой участи, не стоит и мимолётного рассмотрения. Но ведь к таким нелепостям и ведёт вышеописанная позиция.
Истинная позиция, говорящая о том, что галаты желали вернуться к обязанности соблюдать церемониальный закон, не приводит к подобным выводам. Она находится в гармонии со всеми наставлениями апостола.
"Скажите мне вы, желающие быть под законом: разве вы не слушаете закона?" Рассмотрев первую часть этого предложения, обратите внимание на вторую его часть: "... разве вы не слушаете закона? После этого Павел цитирует из книги Бытие историю Авраама, Сарры и Агари в качестве аллегории. Здесь слово "закон" включает в себя книгу Бытие. Определённо это слово здесь не может означать нравственный закон, но однозначно должно включать в себя книгу закона, содержащую требования закона Моисея. Закон обрезания, который постоянно упоминается в этом послании, имеет тесную связь с историей Агари из книги Бытие. Термин "закон" в понимании евреев обычно обозначал пять книг Моисея, включающих в себя всю систему нравственных, ритуальных, прообразных и гражданских постановлений. Эту систему данные иудействующие учителя и желали сохранить. Обрезание было символом всей этой системы. Мы верим в то, что вся эта система была упразднена и не является обязательной для христиан, кроме десяти заповедей и принципов, проистекающих из этого нравственного закона. Когда Павел говорит: "... вы, желающие быть под законом: разве вы не слушаете закона?", то разве этот закон, которые они слушали, не был тем же самым законом, под властью которого они и желали находиться? Однако закон, который они "слушали" был не законом десяти заповедей, а законом, который включал в себя всю систему Моисея. Поэтому закон, о котором идёт речь, не может здесь обозначать нравственный закон.
В качестве другой иллюстрации своего вопроса Павел обращает внимание на факты, связанные с двумя жёнами Авраама: Саррой и Агарью. Он говорит, что эта история является "иносказанием", то есть, по словам Кларка "предназначена понять невидимое при взгляде на видимое". Слово, записанное в оригинале, имеет такое же значение. Каково же то сокрытое значение, которое вдохновенный апостол нашёл в этой простой истории? - Агарь и Сарра в духовном смысле символизируют два завета. "Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь". Он "соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве;" Этот завет должен включать в себя все особые разделяющие постановления, составляющие "стену разделения". Он должен иметь особую связь с термином "добавленный закон", о котором всё время идёт речь, а иначе бы это было полностью оторвано от основной линии рассуждений, и поэтому выводы апостола были бы нелогичными, несвязными и не имеющими отношение к его же доводам. "Скажите мне вы, желающие быть под законом: разве вы не слушаете закона?" Затем он сразу же приводит иллюстрацию о двух заветах. И эта иллюстрация имеет прямое отношение к выводу в первых стихах 5-й главы. Те, кто был в том завете находились "в рабстве" со своими детьми. Сам завет "рождал в рабство", то есть "приносил", или "рождал детей для служения в рабстве" (пересмотренный перевод и Диаглотт). Отсюда и вывод всего этого наставления: "Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства", то есть тому "игу", которое, по словам Петра, "не могли понести ни отцы наши, ни мы". Из этого мы можем только сделать вывод о том, что этот завет, который рождает детей в рабство, включает в себя закон обрезания, а также всё остальное, что обрезание собой символизировало. Церемонии, связанные с этим заветом, имели своим центром Иерусалим. Все его жертвы должны были приноситься там. Все праздники отмечались там. Каждый иудей постоянно молился лицом к этому городу. Все его чаяния и стремления, все его паломничества и посвящения связаны с тем старым Иерусалимом даже до сего дня. И всё это сконцентрировано в завете, который символизирует Агарь. Однако Сарра, истинная жена Авраама, символизирует собой славную свободу и драгоценные благословения Нового Завета. Новый Иерусалим является нашим святым городом. Он и является "вышним", и он же является "матерью всем нам". Мы являемся детьми "обетования", подобно Исааку, если мы заключаем Новый Завет.
Обетование "семени" было дано через Израиля. Некоторые из наших хороших друзей думают, что обетование "семени" относится к будущему, и что "семя" ещё не пришло. Если обетование "семени" ещё не исполнилось, тогда завет свободы, символизируемый Саррой, который это обетованное "семя" должно было учредить, ещё не вступил в свою силу. Поэтому мы делаем вывод о том, что наши друзья всё ещё находятся под властью ветхого завета, завета рабства, символизируемого Агарью. Если их теория верна, то нам их очень жаль. Но мы благодарны также за то, что имеем для них благую весть. "Семя" пришло. И мы, и наши друзья, как мы надеемся, являемся детьми Нового Иерусалима. Мы надеемся на их спасение несмотря на их теории. Может ли кто-нибудь поверить в то, что этот завет, который символизируется Агарью, и "рождает в рабство", является подходящей иллюстрацией Божьего святого закона? Не соответствует ли он "Иерусалиму, который с детьми своими в рабстве"? После этого следует великий вывод из всего обращения апостола, относящийся не только к последним текстам, но и ко всему посланию от начала и до этого места. Мы уже приходили к этому выводу не раз, но думается, что было бы нелишним снова сказать об этом. "Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот, я, Павел, говорю вам: если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати". Эти слова весьма сильны и действенны. Мы никогда бы не услышали этих слов из уст кроткого апостола, если бы не разразился этот великий кризис. Вопрос обрезания затрагивал само основание евангельской системы. Если они обрезывались, то они становились должниками "всего закона". Обрезание было символом всей системы Моисея. Они должны были приносить жертвы, соблюдать особые законы, касающиеся ритуальной нечистоты, сохранять старую стену разделения между ними и всеми остальными людьми, делая тем самым прогресс евангелия в его благой миссии для всех народов земли настолько тяжёлым, что это фактически отвергало само евангелие. Ибо когда они начали соблюдать все эти постановления, они тем самым говорили: "Христос ещё не пришёл", потому что невозможно было совершать работу, которая согласно пророчеств будет совершаться по Его пришествии , если обременить евангелие этим смертельным бременем. И прежде всего, если бы спасение совершалось посредством этих отменённых законов, тогда смерти Христа было недостаточно для тех людей, которые каются и веруют в Него. Эти ложные учителя говорили: "Вы не можете спастись", "если не обрежетесь" и не будете "соблюдать закон Моисея". Поэтому реальным спасителем стало обрезание и закон Моисея, а не смерть Христа.
Не стоит думать, что эти прозелиты из галатии осознавали все последствия своего выбора до тех пор, пока Павел не показал их им. В таком же неведении находились и тысячи других, к которым «иудействующие учителя» имели доступ. Поэтому Богу необходимо было призвать на служение Павла, чьё образование, молодость и полное понимание иудаизма, чьё обращение и чудное духовное просвещение полностью подготовили его к тому, чтобы стать апостолом язычников. Прошли долгие годы после смерти Христа, прежде чем евангелие повлияло существенным образом на языческий мир. Иерусалим, будучи центром влияния, казалось, стоял на пути, препятствуя работе с язычниками. Огромное количество обращённых из иудеев, по-видимому, подверглось влиянию иудейский предубеждений, и для того, чтобы совершить колоссальную работу проповеди евангелия, требовались сильные люди со светлыми головами. Люди с иудейскими предубеждениями ходили за апостолом повсюду, чтобы внедрять свои идеи, преисполненные духа исключительности. Христиане того времени не могли смотреть на происходящее так, как мы смотрим на это сейчас.
Причина ошибочности взглядов наших братьев в вопросе закона в послании к галатам, заключается в том, что они не могут понять колоссальную важность той темы, касающейся иудаизма, вокруг которой возникали все вопросы во времена апостолов. Они рассуждают с позиций настоящего времени и его реалий. Но вывод апостола, который мы уже прочли, показывает, насколько серьёзно он относился к этому вопросу. Его выражения безошибочно указывают на закон Моисея, и не дают никакой возможности для их искажения и придания им связи с нравственным законом. "Если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа". Вы должны "исполнять весь закон". "Не подвергайтесь опять игу рабства". "Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати".
Сильнейшая заинтересованность апостола в этом вопросе открывается не только в этих высказываниях, но и в других словах этого послания, как мы видели, которые имеют отношение к этому же предмету: "Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию". "Смущающие вас" "превращают благовествование Христово". "О, несмысленные Галаты! Кто околдовал вас?" "Так ли вы несмысленны?" "Неужели вы достигаете совершенства посредством плоти?" "О, если бы удалены были возмущающие вас!" Некоторые смягчают значение этого выражения, и не могут воспринять то волнение и гнев апостола ввиду того, что делали ложные учителя. Они были "лжебратьями", которые тихонько "вкрались", используя коварные методы, чтобы разрушить их свободу и заключить целую систему евангелия в рабство. Павел говорит о тех, кто проповедует "другое евангелие": да будет "анафема", то есть "да будет он проклят". Их дела были губительными для многих душ, разрушая самый путь спасения через Христа, отвергая дары Божьей милости для благословения народов земли, и удерживая людей в своём узком, исключительном кругу, возвышая эгоистический иудейский дух, чтобы привести всех людей к признанию исключительности этих иудеев, которые в своём эгоизме отвергли Божье благоволение, и по причине своего упрямства, мятежности подвергли смерти Его Сына.
Павел встречался со многими грехами в разных церквях, за которые он мог упрекать людей. Среди коринфян он нашёл великое развращение и различные формы серьёзных заблуждений. Другие церкви также не были безупречны. Но ни одна из них не заслуживала такого строгого послания, изобилующего таким количеством суровых высказываний, как эта церковь, Почему? - Потому что, хотя грехи других церквей были очень серьёзными, всё же они не подрывали сами основы и принципы евангелия так сильно, как это делали заблуждения, с которыми Павел боролся в этой церкви. Эти заблуждения были радикальными и фундаментальными.
Главный вывод Павла в данных текстах должен был взбесить и лишить силы всех иудействующих учителей, и существенно затруднить их деятельность. Где бы ни читались эти слова, после их прочтения данные учителя уже не могли оказывать прежнее влияние на учеников-язычников. Мы верим в то, что послание к галатам было великим поворотным пунктом во всей этой борьбе, которая так долго сотрясала церковь, сделав необходимым созыв великого собора, постоянно препятствуя работе апостола среди язычников. Весь этот вопрос теперь был разъяснён. Мы рассмотрим ещё несколько пунктов перед тем, как переходить к следующим текстам.
"Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати". Этот текст часто отрывается от контекста, и используется в связи с нашим личным оправданием верой от наших преступлений нравственного закона. Оправдание верой является одной из величайших и самых славных доктрин евангелия Христова. Мы любим, радуемся и поддерживаем эту драгоценную и важнейшую истину. Мы знаем, что Павел объяснял эту истину в послании к Римлянам и других посланиях так, как ни один из библейских писателей этого сделать не смог. Ни один человек не может быть спасён только своими добрыми делами. "Все согрешили и лишены славы Божьей". Мы сами по себе являемся слабыми и совершенно беспомощными, "обложенными немощью", и никогда не сможем снять с себя свою вину и нечистоту посредством своих настоящих или будущих стремлений к послушанию. Мы на самом деле совершенно беспомощны и слабы. И если наши грехи были прощены, то нам необходимо иметь постоянную веру в распятого Спасителя и помощь от Него, постоянный доступ к Его неиссякаемому источнику силы, чтобы обрести какую-то реальную помощь или совершить что-то достойное Божьего одобрения, что можно назвать воистину добрым делом. Во все эти истины мы верим всем сердцем. Всё это мы признаём с радостью. Пожалуй, даже самый поверхностный читатель должен заметить, что апостол, говоря об "оправдании законом", не затрагивает в этой связи оправдание посредством послушания нравственному закону. Такая точка зрения сделает данный вывод совершенно чуждым как предыдущим рассуждениям, как и последующим. Он просто сказал, что если они обрезываются, то не будет им никакой пользы от Христа, что они в таком случае становятся должниками "всего закона". Христос не сможет им помочь. "Вы отпали от благодати", - говорит Павел. Они просто смотрели на своё послушание этим мёртвым, безжизненным церемониям, связанным с обрезанием, как на нечто, что сделает их оправданными или праведными; то есть приведёт их в состояние спасённых; в то время, как всё это они могли получить только верою во Христа. По этой причине, отворачиваясь от единственного источника для омытия греха и нечистоты, отворачиваясь от единственного Имени, которым надлежало им спастись, и поворачиваясь к закону рабства, они "отпадали" от благодати Христа.
Следовательно, мы считаем, что в выражении "оправдываться законом" здесь крайне необходимо знать, о каком законе идёт речь. Нужно знать, какой закон в Новом Завете назван отменённым, упразднённым и обременительным. То же само выражение, - "оправдываться делами закона", очевидно используется в том же смысле и во второй главе (2:16), как показывает контекст. И действительно, совершенно очевидно, что для прощения и оправдания от своих преступлений нравственного закона евреи всегда взирали на дела, требуемые церемониальным законом. По этой причине он и был "добавлен" по причине преступлений. Только немногие просвещённые духом люди видели его истинное назначение.
Следовательно, они были в ещё большей опасности, надеясь на послушание его требованиям для их оправдания, чем на послушание десяти заповедям. Поэтому Павел и открывает полную бесполезность этого церемониального закона после того, как Христос пришёл и умер.
И ещё одна мысль: Кто осмелится сказать, что закон, о котором говорит Павел в 4-й главе, не является тем же самым законом, о котором он рассуждает в 3-й главе? Они должны быть одним и тем же законом. Сможет ли кто-то осмелиться заявить о том, что вывод, записанный в начале 5-й главы, не касается предшествующих рассуждений, записанных в 4-й главе? А если это так, то этот же вывод должен и относиться и к рассуждениям в 3-й главе. Но нравственный закон просто не может быть предметом рассуждений в 4-й главе. Поэтому и закон, рассматриваемый в 3-й главе, не может быть нравственным законом.
Стихи 6-14:
"6 Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью. 7 Вы шли хорошо: кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? 8 Такое убеждение не от Призывающего вас. 9 Малая закваска заквашивает все тесто. 10 Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе; а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. 11 За что же гонят меня, братия, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. 12 О, если бы удалены были возмущающие вас! 13 К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к [угождению] плоти, но любовью служите друг другу. 14 Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя."
Глава 6:12-15:
"12 Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов, 13 ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. 14 А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. 15 Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь."
Мы опускаем оставшуюся порцию послания к галатам, поскольку она полностью рассматривает практическую жизнь христиан, и не относится к изучаемому предмету. В главе 5, стих 6, Павел говорит о совершенной бесполезности обрезания в христианской жизни. Само по себе оно не играет никакой роли. Человек должен покаяться и уверовать во Христа точно также, как если бы он был необрезанным. Только тогда, когда эти иудействующие учителя пытались возвеличить обрезание и всё, что с ним связано, делая его необходимостью для спасения, тогда Павел решительно противостоял этому влиянию. В 7-м стихе он говорит о рвении, с которым галаты приняли евангелие, и о том факте, что некоторые воспрепятствовали им, вернув их назад, и теперь они не покорялись истине как прежде. Эти учителя были самозванцами, которые не имели никакого отношения к Тому, кто призвал галат, то есть ко Христу. Они не были друзьями Христа. Вся церковь была в опасности, потому что "малая закваска заквашивает всё тесто". Но Павел всё ещё имел надежды насчёт галатийской церкви. Он надеялся на то, что они вернутся к своему послушанию истине. В 13-м тексте он говорит о свободе во Христе, к которой они были призваны, и предупреждает их использовать свою свободу "не для угождения плоти", призывая их "любовью служить друг другу". Христианская свобода никогда не приводит к плотским наслаждениям. "Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя". Показав им таким образом самый неоспоримый аргумент в пользу отмены церемониальной прообразной системы Моисея, он говорит о том, что все требования, предъявляемые к нашим взаимоотношениям друг с другом, заключаются в повелении: "Возлюби ближнего как самого себя", - и что эти требования и являются главными в нашем послушании закону Божьему, что касается наших взаимоотношений.
В стихах 11 и 12 мы имеем интересное и сильное наставление, к которому мы обращались несколько раз в наших исследованиях, а именно о той злобе, которую ученики приобрели под влиянием иудейских учений, и самих иудействующих учителей, следовавших за Павлом. И из этого наставления проистекает убеждение о том, что единственной причиной особой ненависти иудеев по отношению к нему был его отказ проповедовать обрезание, или придавать ему какую-то ценность. Если бы он начал делать это, то они бы оставили его в покое. Но при виде той позиции, которую он постоянно занимал, они следовали за ним из города в город, отравляя его жизнь. И об этих "лжебратьях", которые выдавали себя за учеников Христа, которые и увели галатийскую церковь в заблуждение, он сказал, что он желал бы, чтобы они были "удалены", потому что они обесценивали всё евангельское учение. Это "удаление" означает ничто иное, как исключение, и оно также может означать окончательное уничтожение, судя по прошлым упоминаниям на эту тему, как мы видели в первой главе, где на них произносится торжественное проклятие, поскольку они искажали евангелие. Эти факты также показывают нам серьёзность всей этой темы, которую рассматривает апостол в данном послании.
Перед окончанием этих рассуждений, мы желаем выразить данную мысль более полно, чтобы убедить, если возможно, наших друзей, которые придерживаются противоположного мнения, убедить их в том, что вопрос обрезания в первоапостольской церкви был немаловажным вопросом. Этот вопрос влиял на продвижение христианства и на распространение евангельской истины, и в уме апостола он занимал такое же важное место, что и сильно прославляемая истина об оправдании верой. Как уже было сказано, мы считаем последнюю истину очень важным учением. Но особой задачей, с которой апостолу приходилось сталкиваться в своей работе среди язычников, была задача показать связь между его деятельностью и старой церемониальной системой, которая уходила на задний план.
Давайте проследим этот вопрос, чтобы показать, насколько сильно иудеи противостояли истине о равенстве их и язычников перед Богом, которая была очень важной истиной. Если обрезание теряло свою значимость, то все могли увидеть, что они находятся на одном и том же уровне, потому что обрезание символизировало собой всю иудейскую систему, и было стеной разделения, отделяя иудеев от язычников.
Мы рассмотрим случай с Корнилием, посвящённым человеком, который боялся Бога. Очевидно, Бог видел, что Пётр не осмелится пойти и проповедовать Корнилию евангелие до тех пор, пока Он не откроет ему особый свет, осветив этот путь, несмотря на то, что Пётр был человеком с хорошей репутацией. Поэтому Бог дал Корнилию видение с повелением послать за Петром, а Петру дал видение с повелением приготовиться к посещению Корнилия, спустив с неба в видении различных нечистых животных на покрывале, и сказав ему: "Встань, заколи и ешь". Мы знаем, что Бог излил Своего Духа на Корнилия, и на язычников, даже перед тем, как на них были возложены руки. Едва Пётр успел прийти в Иерусалим, как ему пришлось держать ответ за то, что он сделал. Деяния 11:2,3: "И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря: ты ходил к людям необрезанным и ел с ними." И это произошло через много лет после распятия Христа и упразднения церемониального закона. Должно быть совершенно очевидно, что ни Пётр, ни любой другой из апостолов так не поступали вплоть до этого времени. Они не понимали, что язычникам предстояло принять свет точно также, как и им. Они ещё не оставили свои иудейские предубеждения, иначе Бог не посчитал бы необходимым давать видение Петру, чтобы открыть его глаза. Они ещё не понимали настоящего масштаба проповеди евангелия. Когда Пётр рассказал о своём опыте с Корнилием, все были вынуждены смириться с этим происшествием, поскольку именно Бог совершил и направил это дело.
Мы не видим особой ненависти иудеев по отношению к апостолам в Иерусалиме, кроме той, которая проявилась по отношению к нескольким лидерам; гонения Ирода по- видимому были воздвигнуты не без их влияния. Но как только Павел и Варнава пошли к язычникам, их на каждом шагу сопровождали решительные настроенные иудеи, чтобы помешать им и уничтожить все плоды их труда. Когда они пришли в Антиохию и Писидию (Деяния 13), после продолжительного обращения к иудеям, язычники, многие из которых, без сомнения, были прозелитами, пришли и пожелали слушать их в следующую субботу. Туда сошёлся «весь город». Но иудеи, когда они увидели, что язычники принимают свет, весьма заинтересовавшись этим новым учением евангелия, были чрезвычайно разгневаны, как сказано в 45-м тексте: "Но Иудеи, увидев народ, исполнились зависти и, противореча и злословя, сопротивлялись тому, что говорил Павел." Апостол не обязывал этих язычников обрезываться, и поэтому он тем самым не признавал превосходство иудеев. Ничто не могло разозлить иудеев больше, чем это. Когда Павел наконец сказал им, что они направляются к язычникам, и будут трудиться среди них, их гневу не было предела. Они "подстрекнули набожных и почётных женщин", и начальников, и воздвигли сильнейшее гонение на Павла и Варнаву, выгнав их из своей территории. Апостолы убежали в другой город, Иконию (глава 14), но иудеи последовали за ними с такой ненавистью, что те были вынуждены бежать в Листру и в Дервию. Но и там иудеи Антиохии и Иконии пришли за ними и убедили народ побить Павла камнями, и оставить его умирать.
После этого последовал тот Иерусалимский совет, который рассматривал данный вопрос. Мы внимательно изучили эти обстоятельства, и поэтому пропустим их, просто напомнив читателю о том, что этот вопрос поднялся в самой церкви, показывая тем самым, что труд Павла среди язычников повлиял не только на иудеев, но также и на иудействующих христиан, которые говорили: "Если не обрежетесь, и не будете соблюдать закон Моисеев, то не можете спастись". Но Бог помог Своему рабу представить этот вопрос таким образом, что в результате была достигнута великая победа, позволившая евангелию распространяться. После этого, когда Павел проповедовал в Фессалонике (глава 17), иудеи всё ещё следовали за ним, и, смешавшись с основной массой людей, они подняли волнение во всём городе. Павел снова должен был бежать. Он отправился в Верию; но иудеи немедленно последовали из Фессалоники за ним и туда. Павел снова должен был бежать от них. Пройдя Афины и придя в Коринф, он трудился там со своим обычным усердием, проповедуя евангелие, и так продолжалось какое-то время. Но там ему снова пришлось столкнуться с той же лютой ненавистью иудеев, и благодаря им ему пришлось явиться пред Галлиона, представителя власти в Ахаии. Каким же было обвинение, предъявленное великому апостолу? В 18-й главе (13-й стих) мы находим это обвинение: "он учит людей чтить Бога не по закону." Они даже пытались обвинить его в римском суде за его деятельность, не поддерживающую церемониальный закон, как будто это было преступлением. Эти факты открывают особую цель, которая была у иудеев, преследующих апостола. После длительной деятельности в Коринфе, где иудеи не имели над ним большой власти по причине страха перед проконсулами, не осмеливаясь издеваться над ним, Павел имел там большой успех. Но как только он снова появился в Греции (глава 20), иудеи его там уже ждали, чтобы попытаться его убить, но эта попытка не увенчалась успехом. Павел рассказывает об этих обстоятельствах в своём разговоре со старейшинами в Ефесе (20:19), сообщая о самой главной причине всех его преследований и страданий, - "злоумышлений иудеев", которые постоянно шли по его следам, потому что он не проповедовал о церемониальном законе.
В его последнем, заключительном визите в Иерусалим мы видим ясную картину, открывающую нам всю эту борьбу, которая велась даже в церкви. Без сомнения, стремление Павла прийти в Иерусалим было продиктовано его великим желанием улучшить отношение иудейтвующих христиан к обращённым язычником. Он нёс им подарки от христиан-язычников, надеясь как-то уменьшить их антипатию и презрение при виде помощи, оказанной беднякам. Какой же печалью для него, человека, отдавшего всю свою жизнь без остатка своему Господу, страдавшему от всех оскорблений, боли, заключения, и смертельных побоев, какой же печалью для него было увидеть, что его труды не оценены, и что на него самого смотрят с недоверием даже самые высокие церковные лидеры в Иерусалиме, в городе, с которого началась проповедь евангелия! Но он чувствовал, что если только это возможно, этот союз между двумя лагерями церкви должен быть укреплён, и эти чувства презрения и антипатии должны быть устранены. Поэтому он и направился в Иерусалим. Он преподнёс им дары и пожертвования, чтобы показать свою любовь к ним, и вёл себя среди них очень осторожно и осмотрительно. Вначале они приняли эти дары с радостью, однако эти чувства пренебрежения и презрения не были удалены из их сердца. В 21-й главе (стихи 20, 21) мы снова читаем о проявлении этих чувств: "Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему: видишь, брат, сколько тысяч уверовавших Иудеев, и все они ревнители закона. А о тебе наслышались они, что ты всех Иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям." Мы снова видим проявления того же самого старого высокомерия, несмотря на то, что это происходит в церкви. Теперь они советуют ему относиться с уважением к этим обычаям, которые он оставил, и просят его совершить некоторые церемонии "по закону", чтобы таким образом показать своё уважение к этому закону. Мы уверены в том, что такой поступок со стороны апостола был проявлением непоследовательности, и что эти братья давали ему данный совет, будучи под давлением, которое оказывалось против Павла и против учения, которое он проповедовал. И этот совет стал причиной его долгого заключения, которое лишило церковь пользы от его благословенного труда. Этот совет был дан ему со стороны самих последователей Христа. Павел, желая примирить эти два лагеря, был готов на большие уступки, и, поступившись своими принципами, он вошёл в храм для совершения обряда очищения, и внёс значительную сумму денег за очищение четверых человек.
Лучше бы Павел не входил в этот храм; но Бог даже эту ошибку использовал во благо, и Его раб принёс много пользы, несмотря на то, что был в тюрьме. Когда он совершал своё очищение в храме, иудеи, видевшие его в другом месте, возбудили народ против него, "... крича: мужи Израильские, помогите! этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего" и так далее. Здесь мы снова видим, что главной причиной их ненависти был его отказ проповедовать церемониальный закон. Мы все знаем, что за этим последовало. Павел был избавлен властями от этой разъярённой толпы, и наконец получил право говорить к народу. Когда они услышали его говорящим на их языке, то они слушали его внимательно до тех пор, пока он не затронул больной вопрос (глава 22:21,22): "И Он сказал мне: иди; Я пошлю тебя далеко к язычникам. До этого слова слушали его; а за сим подняли крик, говоря: истреби от земли такого! ибо ему не должно жить". После этого они начали бросать пыль в воздух, и безумно вести себя.
Насколько ясно должно быть для всякого искреннего ума представление о том, что этот вопрос, вопрос равенства язычников и иудеев в силу отмены церемониального закона, был главным вопросом в деле проповеди евангелия язычникам в первоапостольское время за пределами Иудеи. Он не был каким- то второстепенным, сопутствующим вопросом, хотя сегодня может создаваться такое впечатление, поскольку всё изменилось и ситуация уже не такая, какой была столетия назад, в самом начале распространения евангелия. Этот вопрос воистину был достойным того, чтобы главный труженик евангелия посвятил ему своё послание.
Сестра Уайт в своей книге "Очерки из жизни апостола Павла" также подробно рассматривает этот вопрос. На странице 64 она говорит: "Иудеи гордились тем, что они имели церемонии, назначенные Самим Богом. Они сделали вывод о том, что поскольку Бог однажды уже учредил еврейскую систему поклонения Ему, то уже не может быть такого, чтобы Он мог одобрить какие-то изменения в этих постановлениях. Они решили, что христианство должно объединиться с иудейскими законами и церемониями. Они были слишком медлительными сердцем, чтобы понять окончание функций той системы, которая была упразднена смертью Христа, и признать, что все их жертвоприношения просто предсказывали смерть Сына Божьего, предсказывали тот момент, когда образ встретился с действительностью, обесценивая Богом назначенные церемонии и жертвы иудейской религии".
Говоря о причинах, приведших к созыву великого Иерусалимского Собора (Деяния 15), что согласуется с нашей позицией, в которой визиты Павла из послания к галатам (2-я глава) говорят о том же событии, она говорит на странице 64: "Они чувствовали, что если ограничения и церемонии иудейского закона не сделать обязательными для всех, принимающих веру во Христа, то национальная обособленность иудеев, которая отделяла их от остальных народов, в конце концов будет утрачена среди всех принимающих евангельские истины". Здесь мы и усматриваем истинные причины их ненависти, о чём мы уже много раз говорили. На странице 195 она говорит об этой ненависти следующее: "Павел в своей проповеди в Коринфе представлял те же самые аргументы, которые он так сильно раскрывает в своих посланиях. Его сильнейший аргумент: "Нет уже ни иудея, ни эллина, ни обрезания, ни необрезания" считался его врагами дерзким богохульством. Они решили, что этот голос должен замолчать навеки." (Подобное же утверждение встречается также и в самом послании к галатам).
На странице 210, говоря об общении Павла с братьями в Иерусалиме, когда он преподнёс им свои дары и высказал свои замечания, она пишет: "Он не мог говорить о своём служении в Галатии, не упомянув о трудностях, которые он переживал от тех иудействующих учителей, которые пытались оклеветать его и его учение, и увести обращённых им людей." Здесь она явно имеет ввиду то же самое, что и послание к галатам. Это и вызывало ненависть. На странице 212 она говорит, что совет Иакова признать церемониальный закон и пойти к священникам, как мы уже говорили, "был проявлением непоследовательности и не был одобрен Духом Святым. Дух Божий не давал такого совета. Это решение было проявлением малодушия. Не принимая церемониальный закон, христиане навлекали на себя ненависть неверующих иудеев, и тем самым подвергали себя суровым гонениям".
Страница 213: "Ученики сами всё ещё одобряли церемониальный закон, и сильно желали идти на компромисс, надеясь таким образом снова добиться одобрения своих соотечественников, устранить их предубеждения, и завоевать их сердца для веры во Христа, Искупителя мира. Великой целью Павла в посещении Иерусалима было объединение церкви в Палестине. Пока они продолжали лелеять свои предубеждения, они тем самым постоянно противодействовали его трудам. Он подумал, что если бы он мог каким-то образом пойти на уступку со своей стороны, то тем самым он смог бы склонить их к истине, и тем самым устранить самое главное препятствие для успеха благовествования в других местах. Но на такую большую уступку, которой они от него просили, он не получал Божьего одобрения. Эта уступка противоречила как его собственному учению, так и его твёрдому и непоколебимому характеру".
Страница 214: "Когда мы рассматриваем великое желание Павла быть в мире со своими братьями, его нежность по отношению к слабым в вере, его уважение к апостолам, которые ходили со Христом, и к Иакову, брату Господа, и его стремление стать "всем для всех людей", насколько он только мог это сделать, не жертвуя принципами, - когда мы всё это видим, то мы не будем сильно удивляться тому, что он не устоял на своём пути твёрдых и решительных действий. Но тем не менее, вместо того, чтобы достичь желаемого результата, эти стремления пойти на уступки ради примирения только приблизили кризис, и ускорили страдания Павла, отделив его от своих братьев в его трудах, и лишили церковь одного и её сильнейших столпов, тем самым принеся печаль многим сердцам христиан во всех странах". Многие другие утверждения можно привести по этому же вопросу. Мы не способны показать всю важность этого вопроса в ранней церкви, если всё, что уже было сказано, не является убедительным.
Нам остаётся только разобрать несколько упоминаний об обрезании в шестой главе. Очевидно, что Павел уже закончил своё долгое наставление, и давал самым дорогим душам советы для укрепления веры христиан. Однако создаётся впечатление, что он всё ещё не может забыть об этом великом вопросе. "Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов". Он показывает, что проповедь евангелия, совмещённая с обрезанием, освобождает от преследований; но проповедь евангелия без обрезания, без признания его важности, навлекала на него преследования везде, где бы он ни был. Но он избрал чистую проповедь евангелия, не думая о преследованиях. Обрезание никого не спасло, необрезание тоже; значение имеет только «новое творение во Христе Иисусе». Мы видим, что от начала и до конца своего послания эта тема является главной и преобладающей в уме апостола.
Настало время оставить нашего читателя наедине с этой темой, заявив, что по нашему мнению, это послание объединено одной постоянной, сильной и гармоничной вестью. Все выводы в конце послания согласуются с предыдущими рассуждениями. Мы показали, что для поднятия этого вопроса было достаточно причин; следовательно, мы делаем вывод о том, что апостол в данном послании главным образом говорил о церемониальном законе от начала и до конца. Наши братья, высказывая свою позицию, хотя и могут привести весьма веские аргументы, основываясь на отдельных текстах Писания, однако они не могут представить эту гармоничную и согласованную позицию, которая прослеживается во всём послании, которую мы и защищаем ввиду многих ссылок по всему посланию, которые категорически не совместимы с мнением об отношении этого послания к нравственному закону.
Этот вопрос, к сожалению, долгое время был вопросом рассмотрения и осторожного подхода. Но поскольку наши братья представили свои взгляды таким публичным образом, таким способом, который мы не считаем уместным и подходящим, то мы чувствуем своим долгом представить наши взгляды на этот предмет перед нашими старшими братьями. Несмотря на это мы испытываем всё те же братские чувства, как и всегда, по отношению к тем, кто имеет другое мнение, веря в то, что они неверно понимают вопросы своего долга. Мы просим наших старших братьев рассмотреть вопросы этого спора внимательно, и хорошо их взвесить. Результаты и выводы мы оставляем в их руках и в руках Божьих.
Баттл Крик, Мичиган.
18 ноября 1886 года.
Э. Д. Ваггонер
Евангелие в послании к Галатам
Критическая статья
Окленд, штат Калифорния, 1888 год
Пояснительная записка
Это письмо было написано в вышеуказанном году, но по определенным причинам мне посчиталось целесообразным уничтожить его. Основной из причин был страх того, что мои действия в этом вопросе могут показаться слишком поспешными. Я также желал посоветоваться с теми, кто обладает большим опытом в этом деле. Отсрочка продолжительностью в два года предоставила мне достаточное количество времени для того, чтобы снова и снова тщательно пересмотреть данный вопрос, дабы он не носил характер разгоряченной полемики. Спустя столь много времени я по- прежнему полагаю, что лучшего всего изложить этот вопрос в той форме, в которой он был записан первоначально, т.е. в форме письма. Само собой разумеется, что это письмо не претендует на то, чтобы быть толкованием на послание к Галатам; для этого понадобится написать книгу многократно больших размеров. В этой работе я всего лишь пытаюсь исправить некоторые из ошибочных взглядов и надеюсь, что это поможет читателю стать более подготовленным к изучению послания к Галатам, а также извлечь из этого гораздо больше пользы, нежели ранее.
Следует отметить, что эта маленькая книга не издается массовым тиражом. Она предназначена для тех, в чьи руки попала брошюра пресвитера Батлера, посвященная посланию Галатам, а также для тех, чей разум давно обеспокоен этой темой. Автор, как никто другой, переживает о том, чтобы его книга, предназначенная для широкого круга читателей, не вызвала противоречивых мнений.
Единственное желание Е.Д.В. заключается в том, чтобы сгладить разногласия и привести Божью семью в единство веры такой, какой она есть во Христе Иисусе, а также приблизить то время, когда Божьи слуги придут к единству взглядов.[3]
Окленд, штат Калифорния, 10 февраля 1887 года.
Пресвитеру Д. И. Батлеру, Баттл Крик, штат Мичиган
Дорогой брат, на протяжении длительного времени я размышлял на тему закона, которая изложена в послании к Галатам. На последней встрече Генеральной конференции ей была уделена определенная доля внимания и, несомненно, что с того времени многие братья размышляли о ней более, чем прежде. Я очень сожалею о том, что в ходе конференции мы были настолько заняты, что нам не удалось побеседовать на эту тему. Следует отметить, что на заседаниях теологического комитета этому вопросу было уделено ограниченное количество времени, а то немногое, что было сказано при тех обстоятельствах, было не достаточно для удовлетворения интереса всех участвовавших в дискуссии сторон. Знаю, что вы всегда весьма заняты, да и у меня самого нет времени, которое можно было бы тратить попусту; однако этот вопрос чрезвычайно важен и привлекает к себе столь много внимания, что теперь мы не можем обойти его стороной. Вы помните мое высказывание о том, что в вашей брошюре есть несколько пунктов, которые, по моему мнению, указывают на то, что ранее вы неверно поняли мою точку зрения. Поэтому, я желаю отметить некоторые из них. Прежде, чем мы погрузимся в детали, я хочу сказать, во- первых, что, как я и уверял вас в ходе личной беды в Баттл Крике, в этом вопросе я не имею против вас ни малейших личных чувств. То, что я опубликовал в «Знамениях» было написано с единственной целью – сделать нечто доброе, раскрыть суть важной библейской темы. Я не писал в полемическом стиле, более того, я старался избежать всего спорного и дискуссионного. В ходе составления этой темы, а также других тем, я ставил своей целью писать так, чтобы ни в ком не вызывать воинственных чувств и представлять простую библейскую истину таким образом, чтобы возражения отпадали прежде, чем человек вознамериться выдвинуть их. Во-вторых, рассматривая некоторые из мыслей, содержащихся в вашей брошюре, я не мог надлежащим образом раскрыть свою позицию. [4] Для того чтобы сделать это мне следует рассмотреть послание Галатам не ссылаясь на то, что было сказано другими авторами на эту тему ранее. В моих статьях в «Знамениях» я упомянул всего несколько пунктов, которые, казалось бы, противоречат закону и часто цитируются в подтверждении упразднения закона, но на самом деле они являются самыми сильными аргументами в пользу вечности закона.
Я также желаю сказать, что, на мой взгляд, была проявлена великая несправедливость в том, что вы в вашей брошюре вы ссылались на пособие по изучению библейских уроков из серии «Наставник». Если бы это была просто несправедливость по отношению ко мне, то это было бы делом незначительным. Но тень сомнения была брошена на все пособие, что значительно ослабит влияние этой важной темы на умы людей, и это при том, что все тексты, упомянутые в этом уроке, были применены в соответствии с той точкой зрения, которой придерживаются авторы, по крайней мере, из среды нашего народа, ранее писавшие на эту же тему. Каждая точка зрения, высказанная в тех уроках, находится в совершенной гармонии с работами, опубликованными в нашем народе, и может быть использована как надежный источник. Это было доказано перед лицом комитета. И до появления вашей брошюры, мне не было известно ни об одном ином взгляде на любой из текстов, опубликованном в нашем народе, кроме того, который изложен в тех уроках. В таком случае я искренне полагаю, что было бы справедливо требовать столь же открытого исправления мнения опубликованного в вашей брошюре.
Что касается уместности публикации этого вопроса в «Знамениях», то мне нечего сказать по этому поводу. Я, как и ранее, охотно приму все, что цензура посчитает надлежащим для печати. Но я хочу сказать, что ничто из того, что было сказано или опубликовано, никоим образом не пошатнуло моей уверенности в правдивости того, что я написал в «Знамениях». Я рад, что занимаю такую позицию и сегодня стою на ней еще тверже, чем вчера. Я также искренне протестую против обвинений в том, что будто бы я использовал «Знамения», и в меньшей степени «Наставник», как средство нечестного обретения преимущества над кем бы то ни было из представителей нашего народа. Далее приводятся цитаты, которые свидетельствую о том, что я не принадлежу к той группе людей, которые отошли от принятого в нашем народе мерила.
Теперь я приступаю к рассмотрению нескольких пунктов в том порядке, в котором они представлены в брошюре. На странице 8 вы говорите: [5] «Господь избрал Авраама и его потомков, чтобы они были его особым народом. Они были таковыми до креста. Он дал им обряд обрезания – окружный надрез на плоти – как знак их отделения от всего остального человечества».
Похоже, что такое неправильное представление о природе обрезания часто фигурирует на страницах вашей работы. Этот взгляд кажется странным, ведь апостол Павел совершенно ясно говорит в отношении обрезания. В послании к Римлянам 4:11 мы читаем об Аврааме: «И знак обрезания он получил, как печать праведности через веру, которую имелв необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность».
Пригодность этого ритуала в качестве знака праведности очевидна каждому, кто понимает, от каких телесных несчастий защищает процедура обрезания. В наше время врачи часто проводят эту операцию как средство профилактики от телесной нечистоты. С этой целью в древности многие нации прибегали к этой процедуре. Геродот (2:37) пишет в отношении египтян: «Они практиковали обрезание ради чистоты, полагая, что лучше быть чистым, нежели миловидным». Профессор Фон Орелли из Базеля в энциклопедии Scaff-Herzogпишет: «Этот обычай также можно встретить среди других народов, которые не имеют видимых связей с любой из древних цивилизаций; например, среди негров Конго, кафров в Африке, саливанских индейцев в Южной Америке, жителей островов Таити и Фиджи, и т.д.». Далее он добавляет: «Современные арабы называют эту операцию tuturtahir, т.е. очищение».
Я думаю, что сегодня среди евреев этот ритуал существует только как профилактическая мера, защищающая от нечистоты. Я присутствовал в ходе его проведения известным раввином Сан- Франциско, где он сказал, что это единственная причина, по которой они осуществляют этот обряд. В этом, как и во всем остальном, евреи утратили всякое познание о духовном значении их церемоний. Их сердца все еще остаются под покрывалом. А ведь отсечение причины телесной нечистоты указывает на освобождение от нечистоты сердца, которое осуществляется по вере во Христа. См. Втор. 10:16 и многие другие тексты, которые доказывают, что изначально обрезание имело более глубокое значение. [6]
Естественно возникает вопрос, если обрезание практиковалось и среди других народов, то почему все презирают евреев за этот ритуал? Ответ заключается в том, что ненависть была вызвана не по причине самого ритуала, а по причине того, что оно символизировало у набожных евреев. «Нечестивый злоумышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими» (Пс. 36:12). «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим.3:12). Это верно в отношении всех времен. В доказательство того, что необрезанные язычники ненавидели евреев сугубо из-за их праведности, а не по причине их обрезания, мы можем отметить то, с какой готовностью они общались с евреями, дабы совратить их на путь идолопоклонства. Всякий раз, когда евреи ослабляли строгость своего образа жизни, отходили от Бога и начинали служить другим богам, то язычники были совершенно не против общаться с ними и вступать с ними в браки.
И это подводит нас к нас к сути вопроса, а именно: сам акт обрезания не мог сделать евреев особым Божьим народом. Они были Его особым народом только при условии обладания тем, знамением чего было обрезание, а именно – праведностью. Когда они не имели праведности, то их состояние было равносильно необрезанию (Рим. 2:25-29; Фил. 3:3), и они были отсечены без милости, точно так, как и язычники. Обрезание было всего лишь знаком обладания праведностью,а когда праведности было мало, то обрезание превращалось в ничто.
На странице 10 мы читаем о евреях следующее: «Затем пришел крест, когда все их особые преимущества вместе с обрезанием, их отличительной чертой и знамением, были сметены. Они лишились их по причине своего непослушания и сопротивления».
На странице 11 мы также читаем о неком еврее: «Ему очень не нравилось, когда его считали обыкновенным грешником и сравнивали с ненавистным язычником. Он энергично защищал обрезание и связанные с этим привилегии».
Однако на странице 37 мы читаем: «Ритуальный закон содержал огромное количество постановлении, ставших тяжким «игом рабства», время которого, по утверждению Павла, уже истекло».
Я не вижу гармонии между последней цитатой и двумя первыми. Как «иго рабства» может быть «особым преимуществом»? [7] И почему тот еврей так горячо отстаивал «обрезание и связанные с ним привилегии», если он считал это тяжким «игом рабства»? Это второстепенный вопрос, но, описывая детали истины, мы должны быть последовательны. Сейчас я не буду останавливаться для того, чтобы делать обзор темы «иго рабства», однако я рассмотрю её позднее.
На странице 12, в отношении посланий к Римлянам и Галатам, мы читаем: «Мы не можем согласиться с теми, кто утверждает, что цель, структура и аргументация этих двух посланий, в сущности, одинаковы. Мы открыто признаем, что в обоих посланиях есть схожие выражения; но мы считаем, что основная линия аргументации и конечная цель этих посланий очень разные, и что многие из, казалось бы, схожих выражений следует понимать по-разному, поскольку этого требует аргументация апостола».
«В других посланиях Павла мы находим ссылки на эти факты; но ни в одном из них мы не находим столь основательно составленной аргументации как в этом. Тот факт, что апостол рассматривает практически одну и ту же тему в двух различных посланиях, не выглядит рациональным. Они были написаны под вдохновением Бога, чтобы послужить особым руководством для христианской церкви. Апостол излагает великие принципы, которые должны будут оказывать направляющее влияние на церковь на протяжении всех грядущих веков. Следовательно, мы считаем неразумной точку зрения о том, будто оба послания имеют одну и ту же цель».
Вы говорите, что было бы неразумно предположить, будто апостол рассматривал одну и ту же тему в двух различных посланиях. Это не аргумент, это просто мнение, которого я не разделяю. Мне кажется, что написание Павлом двух посланий на одну и ту же тему является не менее рациональным, чем написание четырех евангелий. Также, совершенно разумно и то, что пророки Даниил и Иоанн написали две книги практически с одной и той же целью, а именно – просветить церковь в отношении событий последнего времени; или же возьмем первую и вторую книги Паралипоменон, которые описывают тот же исторический промежуток времени, что и четыре книги Царств; послание Павла Титу имеет много общего с посланием Тимофею; а книга Иуды является почти точной, но сжатой копией второго послания Петра. Более того, Павел раскрывает эту широкую тему не только в этих двух посланиях, [8] мы находим те же самые мысли, только не в таком развернутом виде, читая послание к Эфесянам и Колоссянам. Лично я считаю вполне разумным то, что одни и те же истины представлены с разных точек зрения, особенно в том случае, когда они обращены к различным людям, находящимся в различных жизненных обстоятельствах. Читая «Свидетельства для Церкви» я нахожу, что некоторые темы, подробно изложенные в одном месте, повторяются и подчеркиваются в других. Мне это кажется очень уместным и необходимым, даже если наставления адресованы одним и тем же, а не разным церквам. Это соответствует библейскому предписанию правило на правило, заповедь на заповедь.
Вы говорите, что схожие термины и даже идентичные термины не обязательно должны иметь одинаковое значение. Это может быть верно только при условии, что они употребляются в отношении различных тем. Но если в двух различных источниках рассматривается одна и та же тема, и при этом использованы одинаковые или похожие термины, тогда мы обязаны признать, что эти термины обладают одинаковым значением. Если мы этого не признаем, мы вообще не сможем толковать Библию, ибо именно на этом основании мы можем понимать пророчества. Если вы обратитесь к комментарию на 13-ю главу Даниила в книге «Размышления над книгами Даниила и Откровения», то вы обнаружите, что доказательство идентичности зверя похожего на леопарда и маленького рога из 7 главы книги пророка Даниила основаны только на схожести высказываний. Никто никогда не пытался подвергать сомнению этот аргумент, впрочем, никто не имеет на это право.
Теперь давайте на секунду взглянем на тематику посланий к Римлянам и к Галатам. Центральная мысль послания к Римлянам - оправдание верой. Апостол показывает развращенное состояние языческого мира; затем он указывает на то, что евреи ничуть не лучше, что все обладают одинаковой человеческой природой. Все согрешили и все виновны пред Богом, и единственным путем избавления от окончательного осуждения является вера в Христову кровь. Все, кто верою полагаются на Него получают оправдание даром по благодати Бога, а его праведность вменяется им, хотя они и нарушили закон. Эта истина, которая так ясно раскрыта в 3-й главе послания к Римлянам, повторяется и подчеркивается в 4- й, 5-й, 6-й и 7-й главах, [9] а в 8-й главе апостол делает вывод о том, что нет осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Ранее он показал, что все грешники находятся под законом, или же осуждены законом, но когда мы приходим к Богу благодаря искуплению, которое в Иисусе Христе, тогда мы уже больше не под законом, а под благодатью. Это состояние в различных местах описано как «умерли для закона телом Христовым», «мы освободились от него (закона)» и т.д. Везде отчетливо видна тема веры во Христа и оправдания по вере. Итак, мы можем сказать, что оправдание по вере является лейтмотивом послания к Римлянам. Теперь, что же скажем о послании к Галатам? Никто не может оспаривать тот факт, что верующих в Галатии склоняли к тому, чтобы они обрезывались. Неужели галаты покорились требованию евреев о совершении обрезания, потому что первые считали, что обрезание – это великое преимущество? Однозначно не поэтому, но потому что некие евреи учили их, что если они не обрежутся, то не будут спасены. Читайте книгу Деяния 15:1. Следовательно, они воспринимали обрезание как средство оправдания. Но, поскольку кроме имени Христа «нет другого имени под небом, … которым надлежало бы нам спастись», то, следовательно, если человек полагается на что-нибудь или кого-нибудь, кроме Христа – он отвергает Христа. Именно это побудило апостола Павла написать письмо верующим в Галатии. И поскольку евреи убеждали галат совершить обрезание с целью оправдания от греха, то какое иное письмо могло исправить их ошибочное понимание, кроме письма, посвященного вопросу оправдания по вере во Христа? Об этой основной мысли свидетельствуют тексты из послания к Галатам 2:16-21; 3:6-8, 10-14, 22, 24, 26, 27; 4:4-7; 5:5, 6; 6;14, 15, а также другие отрывки, в послании к Римлянам апостол изложил доводы в защиту оправдания по вере в целом, выстроив общий трактат; однако когда он писал галатам, он сосредоточил свое внимание на особом предмете и адаптировал то послание к нуждам и обстоятельствам, сложившимся в Галатии. Абсолютно естественно, что он писал галатам на тему оправдания по вере, ведь они были подвержены опасности и могли потерять веру, несмотря на то, что его трактат Римлянам на эту же тему был составлен ранее. На самом деле послание к Галатам было написано ранее послания к Римлянам. [10] В послании к Римлянам Павел расширил послание к Галатам, сделав его общим трактатом.
На странице 13 вашей брошюры я нахожу параграф, который непременно введет в заблуждение тех, кто не читал моих статей. Вы говорите:
«Каковы же были изменения, произошедшие в людях и вызвавшие у апостола столь сильное недовольство? Может быть, они очень хорошо исполняли нравственный закон: соблюдали субботу, избегали идолопоклонства, богохульства, убийства, лжи, кражи и т.д., и это вселяло в них чувство того, что они оправдываются своими добрыми делами, а значит, не нуждаются в вере в распятого Спасителя? Или же это произошло по той причине, что они приняли обрезание вместе со всем тем, что оно подразумевает и символизирует, вместе с законами и учреждениями, ставшими стеной разделения между евреями и язычниками, а также с постановлениями символической системы обретения прощения? Мы без колебаний заявляем, что причина заключается в последнем. Поддерживая древнюю систему образов и теней, они, по сути, отрицали что Христос, реальность всех тех образов, уже пришел. Они допустили фундаментальную доктринальную ошибку, однако они не осознавали этого. Вот почему Павел так настойчиво и убедительно говорит и указывает им на их заблуждение. Их ошибка заключалась в том, что их действия полностью подрывали принципы евангелия. Это было нечто большее, чем просто ошибочное мнение».
Прочитав приведенный выше отрывок, всякий, кто не читал моих статей естественно придет к выводу, будто ранее я утверждал, что галаты чрезвычайно строго выполняли требования десяти заповедей и таким образом ожидали получить оправдание за свои былые преступления. На самом же деле я учил совершенно противоположному. Я совершенно ясно показал, что галаты принимали обрезание «обрезание вместе со всем тем, что оно подразумевает и символизирует», а также принимали еврейское заблуждение о том, что обрезание было единственным средством оправдания. Мы не можем допустить, что евреи, которые таким образом пытались отвратить галатов от веры, учили их пренебрегать десятью заповедями, но нам точно известно, что они не учили их полагаться исключительно на соблюдение нравственного закона, как на средство оправдания. Истинное евангелие заключается в соблюдении Божьих заповедей и веры в Иисуса. Извращенное евангелие, которому евреи пытались научить верующих в Галатии, заключалось в соблюдении заповедей Божьих и обрезании. Но поскольку обрезание – это ничто, а во всей вселенной нет никакого иного средства оправдания кроме веры во Христа, то, выходит, что, по сути, для обретения спасения они полагались только на свои добрые дела. [11] Но Христос говорит: «Без Меня не можете делать ничего», т.е. человек, отвергающий Христа и принимающий любой другой путь оправдания, просто не в силах соблюсти заповеди, «потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего». Итак, мы видим, что галаты, которые некогда приняли Христа и познали Бога, теперь стали постепенно отходить от Бога и, конечно же, возвращаться к языческим обычаям, которые были присущи им по природе. Это ясно видно из нескольких выражений. Первое: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию, которое впрочемне иное» (Гал. 1:6, 7). Из этого текста явственно, что некто пытался удалить их от Бога, ибо Бог является единственным, кто призывает людей поклоняться Его Сыну (1 Кор. 1:9). И снова мы читаем: «Ныне же, познав Бога, или, лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам … ?» (Гал. 4:9). Это свидетельствует о том, что они отвращались от Бога. В другом месте мы находим: «Вы шли хорошо: кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?» (Гал. 5:7). Эти отрывки ясно указывают на то, почему случай с галатами был столь неотложным – галаты отходили от Божьей истины и погружались в идолопоклонство. Это произошло не потому, что евреи учили их нарушать заповеди, а потому, что они уповали на нечто иное кроме Христа, а поступающие таким образом люди не могут устоять перед грехом, как бы настойчиво они не пытались это делать (см. Рим. 8:7-10; Гал. 5:17). Дом, построенный человеком на любом другом основании кроме скалы Иисуса Христа, обречен на разрушение. Поэтому, я верю, твердо верю, что их ошибка была фундаментальной и серьезной.
Я должен вернуться к 10 странице и обратить внимание на выражение, касающееся относительного положения евреев и язычников после прекращения действия церемониального закона: «Следовательно, уже не было никакого правомерного основания для сохранения стены, отделявшей их от других людей. Теперь они все стояли на одной ступени в глазах Божьих. Все должны были приходить к Нему через Мессию, который пришел в мир; человек может спастись только через Него».
Что вы имеете в виду? Не пытаетесь ли вы этим высказыванием намекнуть на то, что было время, когда любой народ мог приблизиться к Богу иным путем, кроме как через Христа? [12] Если нет, тогда ваш язык ничего не означает. Ваши слова создают впечатление, будто до первого пришествия Христа люди могли приблизиться к Богу посредством исполнения церемониального закона, а после первого пришествия они приходили к Нему через Мессию. Нам придется выйти за пределы Библии для того, чтобы найти какое-то подтверждение идеи о том, что кто-то когда-то мог прийти к Богу каким-то иным путем кроме как через Христа. Ам. 5:22; Мих. 6:6-8 и многие другие тексты решительно указывают на то, что соблюдение только церемониального закона никогда не давало права людям прийти к Богу. Мы вернемся к обсуждению этих пунктов позднее.
Я перехожу к вашему разбору второй главы. Я не думаю, что у кого-то есть мнение достойное рассмотрения, и что кто-то хоть на мгновение осмелится оспорить ваше высказывание о том, что тот визит, о котором идет речь в 1-м тексте этой главы, является тем же самым событием, что и событие, описанное в 15-й главе книги Деяния. Я, конечно же, согласен с вами в этом вопросе. Если вы заметили, то в своих статьях я ясно подчеркиваю этот пункт; фактически, я даже настаиваю на нем, ведь он служит совершенно необходимым фундаментом для моей аргументации. Я уже несколько раз повторял то, что я изложил в этом письме, а именно, что причиной написания послания к галатам стал приход в Антиохию неких мужей, которые учили людей следующему: «Если вы не обрежетесь, то не можете быть спасены». Я согласен с вами в том, что «вопрос, которой был рассмотрен на том церковном совете, впоследствии стал основной темой апостольского послания». Но я не согласен с вами в отношении всех тех слов, которые следует непосредственно после этого высказывания на 25 странице вашей брошюры: «Станут ли Адвентисты седьмого дня утверждать, что нравственный закон стал той темой, которая была рассмотрена на том совете? Разве Петр нравственный закон называет «игом, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы»? Разве нравственный и церемониальный законы были смешаны в одно целое и отвергнуты на совете? Разве принятое на той встрече решение отбросило заповеди, запрещающие кражу, ложь, убийство и повелевающие соблюдать субботу? Нам всем прекрасно известно, что тот совет вообще не принимал во внимание 10 заповедей».
Вы действительно верите, что совет не принимал 10 заповедей во внимание? Если вы так считаете, тогда ответьте мне, пожалуйста, нарушением какой заповеди является блуд? А ведь блуд был одним из четырех запретов, прозвучавших на совете. Я очень отчетливо помню одно из ваших удобопонятных выступлений на Генеральной Конференции, [13] а также еще более ясное свидетельство сестры Уайт, оба выступления имели прямое отношение к рассматриваемому вопросу. Вы доказали из Писаний, что седьмая заповедь может быть нарушена даже взглядом или желанием сердца. И в то же время вы утверждаете, что совет, предписавший верующим изАнтиохи воздерживаться блуда, совершенно не принимал 10 заповедей во внимание. Как вы можете делать такое заявление после прочтения 15 главы книги Деяний – находится за пределами моего понимания.
И снова, еще одним из запретов, прозвучавших на совете, было «не оскверняться идолами». Это, конечно же, должно иметь какое-то отношение к первой и второй заповедям, не говоря уже о других заповедях, которые нарушались в ходе идолопоклоннических пиров. Мне было бы очень жаль, если бы люди, прочитав наши работы, пришли к выводу, будто мы не считаем осквернение идолами или блуд нарушениями нравственного закона. Вы заявляете, что на том совете рассматривался только церемониальный закон. Тогда, пожалуйста, процитируйте ту часть церемониального закона, которая запрещает блуд и идолопоклонство?
Это очень важный вопрос и именно здесь вся ваша аргументация рушится. Вы совершенно верно указываете на связь между посланием к Галатам и 15 главой книги Деяний. Вы также справедливо утверждаете, что в послании Галатам апостол Павел продолжает ту же линию аргументации, которой он следовал на совете. При этом вы ставите себя в зависимость от предположения, что совет не принимал во внимание нравственный закон и делаете это ради того, чтобы доказать, будто в послании Галатам нравственный закон также не принимается во внимание. Но простое прочтение послания, составленного советом, ясно указывает на то, что нравственный закон играл определенную роль в ходе принятия решения; и поэтому, согласно вашей аргументации, в послании к Галатам нравственный закон также должен быть принят во внимание.
Давайте на мгновение предположим, что на совете рассматривался только церемониальный закон; тогда нам обязательно необходимо прийти к выводу (а это ясно сказано в разделе «Два закона» на странице 31), что совет объявил четыре пункта церемониального закона обязательными для соблюдения всеми христианами. Теперь позвольте спросить: 1. Относится ли решение того совета и к нам сегодня, так как оно когда-то относилось к первым христианам? Если да, то церемониальный закон не был упразднен на кресте, и мы по-прежнему обязаны исполнять его. [14] 2. Если церемониальный закон был «игом рабства», а совет все-таки решил, что некая его часть должна была соблюдаться христианами, то в таком случае со стороны совета разве это не было осознанным наложением на христиан ига рабства вопреки настоятельному протесту Петра? 3. Если те «четыре необходимых повеления» были частями церемониального закона, которые нужно было соблюдать через 21 год после распятия, то когда же они потеряли свою силу, и потеряли ли они свою силу вообще? Мы не имеем никаких свидетельств того, что эти четыре необходимых вещи перестали быть необходимыми; и поэтому, исходя из теории о том, что церемониальный закон был игом рабства, мы можем сделать вывод: христианам невозможно стать абсолютно свободными. С уверенностью можно сказать лишь одно: если церемониальный закон был пригвожден к кресту, тогда апостолы, действовавшие согласно водительству Духа Божьего, не стали бы объявлять его отдельные части «необходимыми». А всякий, кто утверждает, что четыре «необходимых» запрета, наложенных иерусалимским советом, были частью церемониального закона, тем самым отрицает и то, что на кресте церемониальному закону был положен конец. Я думаю, что если бы у вас было больше времени для тщательного размышления над этим вопросом, то вы бы не заняли ту позицию, которую вы сейчас занимаете.
А теперь позвольте мне, вкратце, изложить то, что я считаю истиной в отношении иерусалимского совета. Некие люди пришли в Антиохию и учили братьев тому, что если они не обрежутся, то не смогут быть спасены. Эти или подобные им люди способствовали волнениям в организованных Павлом церквях, среди них была и церковь в Галатии. Люди, учившие обрезываться, на самом деле не были истинными христианами, но были «лжебратьями» (см. Гал. 2:4). Вследствие распространения этого учения многие отвернулись от евангелия. Полагаясь на обрезание, как на средство обретения оправдания, они опирались на надломленную трость, которая не могла принести им никакой пользы. Посредством обрезания, они не могли обрести праведности, они постепенно погружались в пагубные обычаи, ибо без веры во Христа ни один человек не может жить праведной жизнью. Теперь, предположим, что совет соглашается с учением этих лжебратьев и постановляет, что обрезание необходимо для оправдания; каков был бы результат? Результат был бы следующим: они бы отвратили последователей от Христа; [15] ибо единственная цель прихода к Христу заключается в обретении оправдания или прощения, а если человек может обрести это не приходя к Христу, то, конечно же, он не имеет в Нем нужды. Какое бы решение не приняли апостолы, факт остался бы фактом: обрезание – это ничто. Обрезавшись, ученики были бы оправданы не больше, чем, если бы они просто щелкнули пальцами. Поэтому, если бы они возложили свое упование на обрезание, то они бы продолжали оставаться в своих грехах; а тот, кто подтолкнет их к этому, действительно возложит на них иго рабства. Грех – есть рабство, и научить людей полагаться на ложную надежду, которая заставит их удовлетворяться своим греховным состоянием и обманывать себя мыслью о том, что они свободны от греха, означает – заковать их в узы рабства.
Петр сказал: «Что же вы ныне искушаете Бога, желаявозложить на выи учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы?» В то время отцы имели церемониальный закон и несли его; они соблюдали его и благодаря этому процветали, как сказал Давид: «Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего; они и в старости плодовиты, сочны и свежи» (Пс. 91:14, 15). Всякий, кто читает книгу Псалмов, понимает, что Давид не считал церемониальный закон обременительным игом, и не относился к исполнению его предписаний, как к тяжкому бремени. Ему было приятно вознести жертвы благодарения, потому что тем самым он выражал свою веру во Христа. Вера во Христа была душою и жизнью его служения. Без этого его поклонение утратило бы свой смысл. Но, если бы он был настолько несведущ и полагал, что простое механическое действие церемониального закона могло бы очистить его от греха, тогда его состояние было бы действительно плачевным. Существуют два ига: иго греха (иго сатаны) и иго Христа. Тяжко нести иго греха, потому что сатана – жестокий господин; но иго Христа – благо, а Его бремя – легко. Он освобождает нас от греха, чтобы мы могли служить Ему, неся легкое бремя (Мф. 11:29, 30).
Теперь, по какой же причине на обеспокоенных новообращенных было наложено всего лишь четыре бремени? Это произошло потому, что эти четыре повеления защищали их от опасности. Соблюдение еврейских церемоний, как средство оправдания, отделяло их от Христа, [16] и, естественно, подталкивало их к благосклонному отношению к языческим церемониям. Им было сказано, что от них не требуется соблюдения каких-либо еврейских церемоний, а затем им было дано предостережение не делать четыре вещи, которые являлись для них самым большим источником опасности. Если бы все-таки новообращенные из язычников начали отпадать от веры, то первое, чему они снова бы предались – это блуд и вкушение крови, поскольку эти обычаи были настолько распространены среди язычников, что совсем не считались греховными.
Таким образом, мы видим, что на Иерусалимском совете рассматривался церемониальный закон, и вопрос заключался в том, следует ли христианам соблюдать его или нет, однако к нему был присовокуплен еще один важный пункт, который был единственной причиной, побудившей совет осудить тех, кто учил верующих в Галатии обрезываться, и этот пункт заключался в том, что такое учение непременно вело к нарушению нравственного закона. Такова сущность учения в послании к Галатам. Павел решительно увещевает галат не обрезываться; не потому что обрезание само по себе является отвратительным, ведь он лично совершил обряд обрезания над Тимофеем (и это также произошло после заседания иерусалимского совета), а потому, что они полагали через обрезание обрести оправдание, и таким образом они отсекали себя от Христа и снова возвращались к идолопоклонству.
Я перехожу к странице 33, к вашему заключительному высказыванию, в котором вы говорите следующее: «Мы рассмотрели почти две полные главы этого письма, около одной трети всего послания, и до сих пор мы не встретили не единого упоминания о нравственном законе, но на протяжении всего этого отрывка мы постоянно находим ссылки на иной закон, закон Моисея».
Я думаю, что когда вы писали эти строки, вы не имели в виду 19 текст 2 главы. Этот текст гласит: «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога». Церемониальный закон никогда не обладал властью умертвить кого бы то ни было. Но даже если допустить, что однажды он имел такую власть, тем не менее, он умер, быв пригвожден к кресту по крайней мере за три года до обращения апостола Павла. Теперь я хочу спросить: «Каким образом Павел мог быть умерщвлен законом, которого на тот момент не существовало уже три года?» В этом тексте явственно речь идет о нравственном законе. Именно этот закон имеет в виду Павел, когда он говорит: [17] «Я жил некогда без закона; но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер; и таким образом заповедь, даннаядля жизни, послужила мне к смерти» (Рим. 7:9, 10). К сожалению, ограниченные рамки данного письма не позволяют мне предоставить подробное описание этих ссылок на закон из 2 главы послания к Галатам, и я надеюсь, что когда-нибудь сделаю это, однако для того, чтобы показать, что в Гал. 2:19 речь идет именно о нравственном законе и ни о каком ином законе, необходимо совсем немного места.
Я вижу, что вы соотносите Гал. 3:10 с церемониальным законом. Так поступая, вы, безусловно, занимаете новую позицию. Я думаю, что я прочитал каждую книгу, опубликованную Адвентистами седьмого дня, но я никогда, ни в одной из них, не встречал такой позиции. Совсем наоборот, все авторы, писавшие на эту тему, применяли этот текст к нравственному закону, и я не понимаю, каким образом можно применить этот текст к какой-либо другой теме. Я не оспариваю утверждение о том, что словосочетание «книга закона» включает в себя как нравственный, так и церемониальный законы. Я рад, что вы признаете хотя бы это, поскольку многие из тех, кто говорил или писал на эту тему, утверждали, что под «книгой закона» подразумевается исключительно церемониальный закон. Однако, обратите внимание на то, что книга Второзаконие всецело посвящена нравственным законам и содержит в себе только одну или две ссылки на церемониальный закон; эти ссылки, в свою очередь, указывают на три ежегодных праздника, а прообраз одного из них все еще находится в будущем. Всякому внимательному читателю книги Второзаконие совершенно очевидно, что нравственный закон занимает в ней основное место. Смотрите главы: 4:5-13; 5; 6 (Адвентисты седьмого дня всюду используют Втор. 6:25 как ссылку на нравственный закон); 11:8; 18-28; 13 и многие другие отрывки кроме этих, которые я назвал выборочно. Втор. 29:29, конечно же, относится к нравственному закону, а выражение, использованное в последнем придаточном предложении, подразумевает, что нравственный закон является основной темой этой книги. А в 27 главекниги Второзаконие, где мы читаем о проклятиях, в 26 тексте, который цитируется в Гал. 3:10, речь идет сугубо о нравственном законе.
Несомненно, то, что церемониальный закон был включен в «книгу закона», однако мне еще не доводилось встретить библейское доказательство того, будто было произнесено какое-то проклятие, ложившееся на человека, не соблюдавшего церемониальный закон, как независимый закон. [18] Я попытаюсь разъяснить, что я имею в виду. Не может существовать никакого нравственного обязательства соблюдать то, чего не требует нравственный закон. Иными словами – грех является нарушением закона. Теперь, если в какой-то момент грех может вменяться за соблюдение или не соблюдение любого действия, запрещенного или предписанного нравственным законом, тогда нравственный закон непременно становится не совершенным критерием поведения. Но мы знаем, что нравственный закон – есть закон совершенный. Он является воплощением всей праведности, даже праведности Бога, и от человека не требуется ничего более, чем совершенное послушание ему. Этот закон настолько широк, что он охватывает каждый поступок и каждый помысел, так что человеку просто невозможно представить себе какой- либо грех, который не запрещен нравственным законом. Я не понимаю, как человек, верующий в божественное происхождение и вечность закона, может подвергать сомнению это утверждение; однако ваша точка зрения, фактически, не отвергает того, что нравственный закон является совершенным критерием поведения, поскольку вы говорите, что проклятие относится как к церемониальному, так и к нравственному закону.
Я полагаю, что вы не станете отрицать того, что проклятием закона является смерть, поэтому я не буду долго останавливаться на этом пункте для того, чтобы представить расширенное доказательство по этому вопросу, однако несколько слов будут вполне уместны. Я всего лишь хочу обратить ваше внимание на несколько аспектов. 1. Проклятие закона – это то, что Христос понес вместо нас (Гал. 3:13). 2. Это проклятие состояло в повешении на древе (см. последнюю часть того же текста). 3. Этим повешением на древе было распятие Христа, ибо не было иного другого случая, когда Он был бы повешен на древе; и Петр говорит жестокосердным евреям: «Бог отцов наших воскресил Иисуса, Которого вы умертвили, повесив на древе» (Деян. 5:30). Следовательно, Христос понес на себе проклятие нравственного закона вместо нас. Не существует никакого иного закона, который был бы связан с проклятием. Однозначно, что проклятие произносится и может быть произнесено только за грех; поэтому если проклятие произносится за несоблюдение обрядов церемониального закона, тогда несоблюдение обряда само по себе должно быть грехом, и тогда церемониальный закон также должен был бы стать мерилом праведности. [19] Я не понимаю, как, занимая такую позицию, вам удается уклониться от вывода о том, что нравственный закон не является, или, по крайней мере, не являлся в эпоху еврейского народа, совершенным мерилом праведности. В вашей позиции я нахожу большой недостаток – вы умаляете нравственный закон и соответственно умаляете ценность евангелия.
Позвольте мне повторить этот аргумент. Если проклятие относится к церемониальному закону, тогда нарушение церемониального закона является грехом; а если нарушение церемониального закона является грехом, тогда существует грех, который не запрещен десятью заповедями; и тогда десять заповедей не являются совершенным критерием поведения; более того, поскольку церемониальный закон упразднен, то из этого следует, что сегодня мерило праведности не такое совершенное, каким оно было в дни Моисея. Если это не является обоснованным выводом, исходящим из ваших предпосылок, тогда я должен признать свое невежество в законах логики. Еще один момент: никакой грех не может очистить сам себя, он также не может быть искуплен каким либо добрым делом. Значит, должен существовать какой-то путь искупления греха. Теперь, если грех был вменен в вину за пренебрежение церемониальным законом, тогда какое средство исправления предусмотрено для такого греха? Церемониальный закон был всего лишь набором обрядовых постановлений евангелия. Если осужденные грешники снова попадали под осуждение, теперь уже под осуждение того средства, которое было предназначено для их спасения, тогда оно действительно должно было быть бременем. Если лекарство, данное человеку для исцеления от мучительного заболевания, только усугубляет его состояние, тогда этот человек воистину достоин сожаления.
Вы можете отметить, и это будет верно, что те, кто отказывался соблюсти требования церемониального закона, предавались смерти. Почему такое происходило, если проклятие не относилось к церемониальному закону? Я дам ответ. Нарушитель нравственного закона справедливо заслуживал смерти, но Бог предусмотрел прощение для всех, кто согласиться принять его. Это прощение обреталось на основании веры во Христа, и было дано повеление, чтобы верующий во Христа свидетельствовал о своей вере через соблюдение обрядов церемониального закона. Теперь, если человек раскаивался в своих грехах и имел веру во Христа, то он выражал это в своих действиях и получал прощение, и тогда, конечно же, он уже не нес на себе наказание за тот грех. Но если он не имел веры во Христа и не соблюдал условий получения прощения, тогда, конечно же, на него налагалось наказание за грех. Человек нес то наказание не за то, что он не осуществил обряды церемониального закона, а за грех, который мог бы быть снят с него в том случае, если бы он проявил веру. [20] Я думаю, что верность этой позиции понятна каждому. Давайте проиллюстрируем её. Представим себе преступника, который совершил умышленное убийство и осужден на смерть. Ему сообщают, что Губернатор простит его, если он признает свою вину, раскается в своем грехе и попросит о прощении; однако преступник отказывается сделать это и тогда закону позволяется выполнить свое дело: преступник повешен. Почему он повешен? Может быть он повешен за то, что не попросил о прощении? Никак нет. Он повешен за убийство. Он понес наказание не потому, что он отказался просить о прощении; но если бы он молил о прощении, то все наказание до последней капли было бы отменено. Точно так происходит в отношениях между грешником и законом Божьим. Если он пренебрежительно относится к предложенному ему прощению, и выражает свое безразличие тем, что отказывается предпринять шаги, необходимые для получения прощения, тогда проклятию закона, т.е. смерти, позволяется пасть на него. Отказ получить прощение не является грехом. Бог приглашает всех людей получить прощение, однако у Него нет закона, который бы принуждал человека принять прощение. Преступник, которому было предложено прощение, и который отказался от него, виновен не более другого человека, который совершил то же самое преступление, но которому не была предложена возможность спасения. Я не знаю, как можно еще понятнее объяснить это; впрочем, я не вижу в этом необходимости. Итогом всех наших размышлений является следующее: грех является нарушением исключительно нравственного закона, и ни какого другого закона; поскольку нравственный закон охватывает все наши обязанности. Нарушитель нравственного закона попадает под проклятие, и это проклятие заключается в смерти; «ибо возмездие за грех – смерть». Но для прощения тех, кто исповедует веру во Христа, предусмотрено нечто. Они выражают свою веру посредством проведения определенных ритуалов. До распятия Христа это осуществлялось через приношение жертв, а после распятия – через крещение и участие в вечере Господней. Те, кто имеют настоящую веру, будут проявлять её соответствующим образом и избегут наказания. Именно это имел в виду Христос, когда он сказал Никодиму: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия» (Ин. 3:17-18). [21]
Меня удивляет, как вы, читая Гал. 3:11, 12, можете полагать, будто слово законв этих текстах имеет хотя бы малейшее отношение к церемониальному закону. Я процитирую их: «А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. А закон не по вере; но кто исполняет его, тот жив будет им». Похоже, что никакой иной комментарий не в силах яснее раскрыть истину о том, что в этих текстах речь идет только о нравственном законе. Невозможно уклониться от такого вывода, сославшись на то, что фраза «законом никто не оправдывается пред Богом» относится в равной мере к любому закону, а значит, может быть применена к церемониальному закону в той же степени, что и к нравственному. Вопрос состоит не в том, о каком законе здесь можетидти речь, а о каком законе здесь идет речь. Рассматриваемый в этих текстах закон – это закон, о котором сказано, что «кто исполняет его, тот жив будет им». Это высказывание совершенно верно в отношении нравственного закона. Оно эквивалентно Рим. 2:13, где сказано, что «исполнители закона оправданы будут». Печальный факт того, что исполнить закон никто не может, не в силах разрушить истину о том, что делатели закона будут оправданы. Все, чего Бог может требовать от любого из своих творений – это совершенное подчинение только нравственному закону. Такое служение не обязательно предоставит человеку вечную жизнь. Но человек может со всей скрупулезностью выполнить все пункты церемониального закона и всё же быть осужденным. Фарисеи строго соблюдали церемониальный закон, но, несмотря на это, они были прокляты; следовательно, этот текст не может иметь ни малейшего отношения к церемониальному закону.
Опять же этот текст гласит, что «закон не по вере». А церемониальный закон был не чем иным, как делом веры; он был основан на вере от начала до конца. Все различие между приношениями Каина и Авеля заключалось в вере (см. Евр. 11:4). Только вера давала этой системе всю ту силу, которой она обладала. И это является еще одним несомненным доказательством того, что о церемониальном законе здесь речь не идет.
Похоже, что не нужно приводить доводы для того, чтобы показать, что отрывок Гал. 3:11-13 содержит ссылку на нравственный закон и ни на что иное, кроме нравственного закона. До публикации вашей брошюры никто из Адвентистов седьмого дня не выдвигал противоположного мнения. Я не могу поверить, что вы осознанно отрицаете мысль о том, что в этих текстах рассматривается нравственный закон. [22] Границы этой статьи не позволяют мне рассмотреть каждый случай употребления слова «закон» в послании к Галатам и показать его применение, но я хочу задать вам один вопрос: «Разумно ли предположить, что апостол станет использовать слово «закон» в одном месте, а затем через несколько текстов, не делая ничего, указывающего на смену тематики, начнет употреблять то же самое слово, и в этих же двух местах будет ссылаться на два совершенно отличающихся закона?» Вы сами говорите, что это неразумно. Если бы апостол писал в такой неопределенной манере, используя понятие «закон», которое в одном тексте указывало бы на нравственный закон, а в следующем тексте на церемониальный закон, тогда никто бы не понял его писаний, не обладая той же самой степенью инспирации, которой обладал апостол.
Я снова обращаюсь к вашей книге, где на 39 странице мы читаем следующее: «Если бы галаты собирались повторно учредить всю иудейскую систему, что было бы вполне логичным следствием их принятия обряда обрезания, то тем самым они должны были бы навлечь на себя проклятие».
В том же самом параграфе вы говорите, что фраза «проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона» относится к церемониальному закону и что галаты навлекали на себя то проклятие, потому что они собирались повторно учредить всю иудейскую систему! Я не вижу в этом совершенно никакой логики. Если бы это было верно, то это был бы тот случай, когда говорят: «Не сделаешь – тебя осудят, а сделаешь – тебя все равно осудят».
Я перехожу к вашему доводу относительно Гал. 3:17-19, в котором вы говорите: «Этот закон был дан спустя 430 лет после обетования данного Аврааму. Следовательно, разве то могли быть те же самые «повеления Мои, уставы Мои и законы Мои» (Быт. 26:5), которые соблюдал Авраам? Несомненно, что они были нравственным законом; отсюда следует отрицательный ответ на этот вопрос» (стр. 43).
Это один из тех аргументов, которые доказывают слишком много. Это мнение противоположно взгляду кэмпбеллитов (последователей Кэмпбелла), полагающих, что нравственный закон не существовал до того, как он был дан Моисею на Синай. А вы заявляете, что нравственный закон не был дан на горе Синай, потому что он существовал в дни Авраама. [23] Но факт остается фактом: Бог произнес некий закон с горы Синай, и то событие совершилось 430 лет спустя после обетования данного Аврааму; следовательно, ваше утверждение о том, что закон, данный спустя 430 лет после того, как Авраам соблюл нравственный закон, равносильно утверждению о том, что закон, данный на горе Синай, не был нравственным законом. Если ваш аргумент обоснован, то он доказывает то, что закон, о котором тут идет речь, церемониальным законом также не являлся, потому что Авраам уже фактически соблюдал его. Он был обрезан, что по вашим словам символизирует весь закон, и он приносил Богу жертвы. Я думаю, что когда вы будете пересматривать вашу книгу, то, по крайней мере этот довод, должен быть исключен.
Далее вы говорите: «Этот закон был «дан после по причине преступлений». В оригинале употреблено слово, означающее «пройти мимо, оставить без внимания; преступить или нарушить». Значит, этот закон был «дан после» потому что какой-то другой закон был «нарушен» или «оставлен без внимания». Он не был дан в дополнение к себе самому, так как он сам был «нарушен». Было бы абсурдно предположить, что эти слова относятся к нравственному закону; ибо никто из нас не станет утверждать, что после произнесения 10 заповедей нравственного закона стало больше, чем до этого события. Они все существовали ранее, хотя Израиль мог быть в неведении относительно его отдельных частей».
Похоже, что ваш основной довод основан на игре слов. Для того чтобы опровергнуть что-либо, не достаточно просто сказать, что эта вещь или идея абсурдны. Есть вещи, которые одному человеку кажутся абсурдными, а другому – очень благоразумными. Павел говорит, что проповедь о кресте для одних людей является юродством, т.е. безрассудством; и я часто слышал, как люди насмехаются над мыслью о том, что смерть одного человека может искупить грехи другого. Они называют такую идею абсурдной, однако для вас и для меня она полностью согласуется со здравым смыслом. Итак, если вы говорите, что абсурдно применять понятие «дан после» к нравственному закону, тогда вы должны обосновать ваше утверждение доказательствами, ибо только тогда оно обретет ценность.
Вы говорите: «Нельзя с уверенностью утверждать, что нравственный закон был дан спустя 430 лет после Авраама, ибо мы видим, что он существовал во времена патриарха и был полностью соблюден им». Я уже обращал ваше внимание на этот аргумент, и я снова прокомментирую его немного позднее. [24] Если закон, о котором говорится здесь, является церемониальным законом, а ваш выше упомянутый довод является правомерным, тогда ваш довод исключает возможность существования какого-либо церемониального закона во времена Авраама; но Авраам к тому времени уже имел основные части церемониального закона, хотя формально этот закон еще не был дан. Если вы отрицаете тот факт, что Аврааму был дан церемониальный закон, и настаиваете на том, что это произошло лишь спустя 430 лет, тогда я хотел бы спросить вас какое средство обретения прощениясуществовал до исхода? Вы говорите, что церемониальный закон был дан по причине преступлений, а это значит, что он был дан в качестве средства обретения прощения. Тогда, почему же он не был дан как только было совершено преступление, а 2500 лет спустя? Я утверждаю, что средство обретения прощениябыло предоставлено сразу же после грехопадения, и в доказательство этого я напоминаю вам о жертве, принесенной Авелем. Ваш довод исключает существования средства обретения прощениядо времени исхода. Вы можете сказать, что в то время церемониальный закон был дан более официально и подробно, чем прежде; очень хорошо, но если этот аргумент приемлем в отношении церемониального закона, а это бесспорно, то почему его в равной степени нельзя отнести и к нравственному закону? Вы не можете отрицать того, что нравственный закон был дан на Синае, хотя он был известен еще со времени творения. Тогда почему же он был дан? Потому что до этого он никогда не был оглашен официально. Насколько нам известно, не существовало его рукописных копий, и огромное количество людей совершенно не ведали о нем. Вы сами говорите, что Израиль мог не знать о некоторых частях нравственного закона, и это, несомненно, так. Тогда у нас есть веское основание, почему его следовало дать в то время – из-за преступлений. Если бы все люди знали и соблюдали закон, тогда не было бы необходимости в том, чтобы снова обнародовать его на горе Синай; но поскольку он были не сведущи относительно его требований и нарушали их, то возникла необходимость снова дать его народу, именно так и произошло.
Но вы говорите, что неверно применять выражение «дан после» по отношению к нравственному закону. Ответ на этот вопрос должна дать сама Библия. В 5 главе книги Второзаконие Моисей подробно излагает сынам Израилевым все обстоятельства, при которых ему был передан закон. Тексты 6- 21содержат саму сущность 10 заповедей, а в 22 тексте Моисей говорит о них [25] : «Слова сии изрек Господь ко всему собранию вашему на горе из среды огня, облака и мрака громогласно, и более не говорил …». В Септуагинте выражение «говорил более» из Втор. 5:22 и «дан после» из Гал. 3:19 являются одним и тем же словом. То же самое еврейское слово использовано в Быт. 30:24, где оно переведено как «даст». Никто не может отрицать очевидность того, что Втор. 5:22 указывает на нравственный закон и ничего кроме нравственного закона (прим. пер.: в английской Библии KJVв трех вышеупомянутых текстах употреблено одно и то же слово – added,т.е. добавил). И мне не важно, как вы истолкуете это слово: добавил, изрек или обнародовал – это вовсе не имеет значения. В Евр. 12:18, 19 мы имеем безошибочное указание на глас Божий, произносящий закон с горы Синай, и на просьбу народа о том, чтобы Бог более не говорил к ним (Исх. 20:18, 19), вот эти слова: «слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово». Здесь слово, переведенное как «продолжаемо», является тем же самым словом, которое употреблено в Гал. 3:19 и Втор. 5:22. При желании мы могли бы передать этот отрывок так: «слышавшие просили, чтобы слово не было дано им более» и тогда мы получим однородное толкование. Или же мы можем однообразно перевести его как «изречено», и тогда во Второзаконии мы бы читали о том, что Господь изрек все те слова на горе из среды огня, громогласно и т.д. и «не изрекал более»; и тогда это будет безошибочной истиной и верным толкованием. Подобным же образом, с целью достижения однообразия мы справедливо можем перевести Гал. 3:19 «он был изреченпо причине преступлений». Или мы можем взять словосочетание из Втор. 5:22 в том же смысле, в котором оно использовано в Быт. 30:24 и тогда у нас появится та же самая мысль. Когда Рахиль говорила «Господь даст мне и другого сына», то это было бы равносильно тому, что она бы сказала «Господь даст мне еще сына». Итак, суть Втор. 5:22 заключается в том, что после того, как Господь дал им заповеди, перечисленные в предыдущих текстах, более Он им ничего не давал. Мне кажется вполне обоснованным использование выражения «дан после» по отношению к нравственному закону; и, приемлемо это или нет, но я привожу ссылки на два других текста кроме Гал. 3:19, которые применимы к нему. Вы не сможете найти в Библии ни единого выражения «дан после» (прим. пер.: в англ. значении added, т.е. добавлен) в отношении церемониального закона, чтобы обосновать вашу точку зрения на Гал. 3:19.
В Втор. 5:22 ясно сказано, что 10 заповедей были произнесены Господом, [26] и что ничего иного кроме 10 заповедей не было сказано, дано или добавлено. Гал. 3:19 сообщает нам, почему они были произнесены. Это произошло по причине преступлений; т.е. потому что люди в своем большинстве были не сведущи в законе. Мы не станем играть со словом «добавил» и не будем употреблять его в математическом смысле, но мы непременно должны употребить его в значении «объявил» или «произнес». После того, как Бог произнес нравственный закон с горы Синай, его размеры не стали больше, чем до этого события, но, несомненно, он стал лучше известен, чем ранее; и у людей осталось меньше поводов оправдывать свои грехи, чем они имели ранее. В предшествовавших текстах апостол говорит об обетовании, данном Аврааму и заключенном с ним завете. Высказывание о том, что завет был утвержден во Христе, ясно указывает на то, что завет с Авраамом подтвердил прощение грехов через Христа. Однако прощение грехов обязательно подразумевает знание того, что такое грех. Только праведники могут стать наследниками обетования, а познание разницы между грехом и праведностью может быть получено через познание нравственного закона. Поэтому передача закона в более конкретном виде, чем ранее, была необходима для того, чтобы люди могли стать сопричастниками благословений обещанных Аврааму.
О том же самом написано в Рим. 5:20: «Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление». Я никогда не встречал Адвентиста седьмого дня, у которого были бы трудности с тем, чтобы применить этот текст к нравственному закону, тем не менее, он такой же трудный, как и Гал. 3:19. Слово, переведенное как «пришел после», буквально означает «вошел». Но, как очевидно из текстов 13, 14 той же самой главы, а также из выражения «умножилось преступление», нарушение закона существовало и до того, как пришел закон. Хотя, закон существовал во всей своей силе до исхода из Египта, тем не менее, он «пришел после», «вошел», был произнесен, дан или «дан после». Почему? Чтобы «умножилось преступление», т.е. чтобы грех стал «крайне грешен посредством заповеди» (Рим. 7:13); чтобы то, что было грехом и ранее, стало более отчетливо воспринимаемо как грех. Поэтому он пришел или был дан «по причине преступлений». Если бы не было преступлений, то не было бы и необходимости для прихода закона на Синае. [27] Почему же он пришел по причине преступлений? Чтобы «умножилось преступление», чтобы сделать грех более ужасным, чем ранее, и чтобы побудить людей стремиться к преизобильной благодати Божией, которая была явлена во Христе. Итак он стал учителем, детоводителем, чтобы привести людей ко Христу, чтобы они получили оправдание по вере и в Нем сделались праведными пред Богом. Поэтому позднее сказано, что закон не противен обетованиям Божьим. Он действует в гармонии с обетованием, ибо без него обетование не будет действенным. И это самым ярким образом свидетельствует о вечности закона.
Меня не заботят мнения комментаторов за исключением тех случаев, когда они ясно излагают то, что уже было доказано Библией; но поскольку вы в вашей брошюре в значительной степени полагаетесь на мнение комментаторов, то было бы полезно процитировать некоторых из них здесь. Однако, я делаю это не потому, что эти цитаты могут что-то добавить к доказательства, а в противовес вашим цитатам, а также потому что они могут изложить дело яснее, чем это сделал я. Профессор Бойз (Boise) в своей работе «Критические заметки к греческому тексту послания к Галатам» говорит в отношении этого текста: «Следовательно, фраза по причине преступленийсодержит в себе следующую мысль: дать познание о том, что такое преступление, ясно и четко объяснить, какие именно из божественных требований были нарушены».
Он также пишет: «В продолжение этой же мысли, данную фразу можно истолковать следующим образом: чтобы ограничить преступление».
Далее он цитирует Еразмуса, Ольшаусена, Неандера, Де Ветте, Эвальда, Лютера, Бенгеля и других комментаторов, разделяющих то же самое мнение. Если мы предоставим комментаторам возможность решить этот вопрос, то я думаю, что нравственный закон займет лидирующую позицию.
Д-р Барнс о выражении «по причине преступлений» говорит следующее: «В отношении преступлений или со ссылкой на них. Значение заключается в том, что закон был дан для того, чтобы показать истинную природу греха, или показать, что такое грех. Его цель заключалась не в том, чтобы указать путь оправдания, а в том, чтобы выявить истинную природу греха; [28] удержать человека от совершения греха; сообщить ему о наказании за грех; убедить людей в этом, и таким образом выполнить «вспомогательную» и подготовительную работу для того, чтобы искупление свершилось через Искупителя. Таково истинное значение Божьего закона, который был дан отступившему человечеству, и данное предназначение закона остается неизменным».
А д-р Кларк говорит: «Он был дан для того, чтобы мы могли осознать свою греховность и ощутить необходимость в Божьей милости. Закон является верным путем, безошибочным мерилом, определяющим отклонения от норм нравственности в нашем поведении. См. примечания к Рим. 4:15 и особенно к Рим. 5:20, где подробно рассматривается эта тема, и объясняются образы».
Ваш аргумент, заключающийся в том, что нравственный закон был «дан после по причине преступлений» в равной мере применим против нравственного закона, который «пришел после, и таким образом умножилось преступление». Если вы утверждаете, что Гал. 3:19 не может относиться к нравственному закону, тогда вы должны согласиться и с тем, что в Рим. 5:20 также речь не идет о нравственном законе.
Я цитирую далее из вашей брошюры, из параграфа, завершающегося вверху 44 страницы: «Было бы абсурдно предполагать, что этот закон был дан «в дополнение» к самому себе. Это вполне применимо к другому закону, который был учрежден по причине того, что существовавший ранее закон был «преступлен». Невозможно преступить несуществующий закон, ибо «где нет закона, нет и преступления».
Я уже показал силу выражения «дан после». Я никогда не заявлял о том, что какой- то закон был дан «в дополнение» к самому себе, или что под выражением «дан после» подразумевается какое-либо математическое действие. Что вы имеете в виду, говоря, что закон невозможно преступить прежде, чем он возникнет? Похоже вы подразумеваете то, что нравственный закон не существовал, и таким образом его можно было преступать до того момента, когда он был дан на горе Синай. Я знаю, что вы не верите этому, но все же в другом абзаце вы довольно ясно подразумеваете это. Я еще раз процитирую Рим. 5:20 «Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать». Этим законом, несомненно, является нравственный закон, хотя вы можете возразить, что это невозможно, потому что преступления существовали еще до того, как пришел закон, о котором здесь говорится, а «где нет закона, нет и преступления»; и поэтому, пришедший закон был каким-то другим законом. Но вы бы здесь этого не доказали. [29] Вы бы, также как и я, заявили, что значение этого текста в том, что закон пришел или был дан, чтобы грех мог проявиться в своей истинной чудовищности. Как Павел говорит в ином месте «грех становится крайне грешен посредством заповеди». Нравственный закон существовал с момента творения и даже задолго до него. Патриархи имели познание о нем, а также все жители допотопного мира и Содома, потому что они были найдены грешными; однако он не существовал в письменной форме и те, кто не имели близких отношений с Богом, не могли иметь совершенного познания закона, который бы указывал им на всю гнусность греха. Они могли знать о том, что совершенные ими дела были неправильны, но они не могли осознать всю их чудовищность; в особенности это касается того случая, когда израильтяне освободились от египетского рабства. Бог заключил завет с Авраамом и дал ему чудные обетования, но при условии обретения совершенной праведности во Христе; и для того, чтобы человек мог достичь совершенной праведности, он должен иметь закон в полном объеме, и должен знать, что многое из того, что ему ранее казалось безобидным, было греховным. Итак, закон пришел для того, чтобы преступление умножилось, а так как преступление умножилось, то человек увидел свою порочность и обнаружил, что преизобилующая благодать покрывает его грехи. Все это настолько очевидно, и Гал. 3:19 служит этому ясной параллелью, что меня удивляет, как человек, имеющий верное понимание взаимосвязи закона и евангелия, может хоть на мгновение подвергнуть это сомнению.
И снова на 44 странице читаем: «О нравственном законе говорится как о том, законе, который был нарушен. Но «данный после закон», о котором пишет Павел, предоставил возможность получения символического прощения этих преступлений, до наступления того времени, когда будет принесена истинная Жертва».
Я уже уделил достаточно внимания вашему неточному толкованию выражения «дан после», но в только что приведенной цитате присутствует мысль, которая в последнее время, к моему сожалению, получила некоторое распространение. Она заключается в том, что в так называемой еврейской диспенсации прощение грехов было всего лишь символическим. Из ваших слов следует, что до тех пор, пока Христос не был принесен в жертву, истинную Жертву, подлинного прощения грехов не существовало. Если бы это было так, то позвольте спросить, как в таком случае Енох и Илия попали на небо? [30] Были ли они восхищены с непрощеными грехами? Они были взяты на небо, и это служит достаточным доказательством того, что их грехи были прощены. Когда Давид говорит: «Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства!» (Пс. 31:2), то он имеет в виду то же самое, что и Павел, который использует идентичные слова. Давид сказал Господу: «Ты снял с меня вину греха моего». Это не было поддельным прощением. Было отчетливо сказано, что если человек согрешит против любой из заповедей Господних, то он должен будет принести жертву, и его грехи буду прощены ему (Лев. 4:2, 3, 20, 26, 31). Сама жертва не обладала никакой добродетелью или достоинством, она была образной, однако прощение было подлинным, столь же подлинным, как и любое прощение полученное после распятия. Как такое может быть? Ответ прост – Христос является Агнцем, закланным от создания мира. Обетование о том, что Он принесет себя в жертву, было дано Адаму и Еве еще в Эдемском саду; позднее Бог клятвенно подтвердил это обетование Аврааму, поэтому на основании того обетования Авраам, Исаак, Иаков и всякий желающий могли посредством крови Христа получить такие же преимущества, что и мы, живущие сегодня. Реальность того прощения была продемонстрирована на примере Авеля, который, вознеся свою жертву, получил свидетельство о том, что он был праведен. Однако, не существует праведности, которой бы не предшествовало прощение. Если бы прощение было символическим, то и праведность также должна была бы быть символической. Но Авель, Ной, Авраам и многие другие были на самом деле праведными; они имели совершенную праведность по вере; следовательно, они должны были сначала получить истинное прощение. Это также подтверждается тем фактом, что прощение грехов должно предшествовать всякой праведности. Ибо не может быть праведности без веры (Рим. 6:23) и вера всегда приносит прощение (Рим. 3:24, 25; 5:1).
Я цитирую следующий параграф вашей брошюры, страница 44: «Фраза «до времени пришествия семени», вне сомнений, ограничивает продолжительность этого средства обретения прощения. Даже слово «до» или «пока не» содержит в себе такое значение. Значит, закон, пришедший «после», должен был существовать не дольше, чем «до времени пришествия семени». Язык послания однозначно заявляет об этом. Время действия нравственного закона простиралось не более чем до времени полного свершения событий, связанных с Мессией? Ни один Адвентист седьмого дня никогда не признает этого. Но именно так обстоит дело с другим законом».
[31] Вы говорите, что данный после закон должен был существовать не дольше, чем до пришествия семени, поскольку слова «до» или «пока» всегда указывали на определенные границы промежутка времени. Позвольте мне процитировать вам несколько текстов. В Пс.112:8 я читаю о добром человеке следующее: «Утверждено сердце его: он не убоится, когда (в англ. пер.: пока не) посмотрит на врагов своих». Вы полагаете, что этот добрый человек лишится твердости, как только увидит своих врагов? И снова читаем о Христе в Ис. 42:4: «не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда». Вы полагаете, что в этом случае слово «доколе» устанавливает какие-то пределы силы и мужества Христа? Означает ли этот отрывок, что как только Он утвердит суд на земле, то Он сразу же ослабеет и изнеможет? Ответ на этот вопрос очевиден. Также в Дан. 1:21 мы читаем: «И был там Даниил до первого года царя Кира». Означает ли это, что на этом дни его жизни прекратились? Никак нет, поскольку в 10 главе мы читаем о видении, которое было дано ему в третий год царя Кира. В 1 Цар. 15:35 написано: «И более не видался Самуил с Саулом до дня смерти своей». Как вы думаете, он отправился посмотреть на него, как только царь умер? Эти тексты свидетельствуют о том, что слова «до» и «доколе» не обязательно ограничивают сроки действия тех или иных действий или состояний, и не обязательно подразумевают, что закон перестает действовать с момента прихода семени. Объяснение точного значения этого термина я отложу на потом.
Я привожу следующую цитату из вашей брошюры: закон, данный после, был «преподан через Ангелов, рукою посредника». Все согласны с тем, что этим «посредником» был Моисей, который был посредником между Богом и людьми. Гринфилд приводит этот текст в качестве иллюстрации и толкует слово, которое в оригинале означает «преподан», как «провозглашен». Верно ли то, что 10 заповедей были «преподаны» или «провозглашены» ангелами «рукою» Моисея или «в руки» Моисею? Сам Бог произнес их голосом, от которого сотрясалась земля, и написал их Своим перстом на каменных скрижалях. А через ангелов был дан другой закон, который и был записан в «книгу» рукою Моисея. Если читатель желает взглянуть на другие места, где в отношении «закона Моисеева» употреблено по существу то же самое выражение, то он может обратиться к Лев. 26:46; Чис. 4:37; 15:22, 23, и особенно Неем. 9:13, 14, где приводится четкое различие между теми законами, которые произнес Бог и законами, которые были даны «рукою Моисея». [32]
В этом параграфе присутствуют несколько моментов, и мы рассмотрим их в порядке очередности. Во-первых, был ли церемониальный закон дан через ангелов? Те, кто подобно вам придерживаются этого мнения, ссылаются на Гал. 3:19, как на доказательство. Но такое доказательство не является компетентным, поскольку мы рассматриваем текст; но, к сожалению, в вашей теории это единственный текст, на который вы опираетесь. И, таким образом, ваше доказательство того, что церемониальный закон был дан ангелами, является ничем иным, как умозаключение в замкнутом круге. Итак: вы говорите, что Гал. 3:19 указывает на церемониальный закон, потому что там сказано о законе, который был преподан через ангелов; а затем вы «доказываете», что церемониальный закон был произнесен ангелами и при этом ссылаетесь на Гал. 3:19, который, как вы уже «доказали», указывает на церемониальный закон. Вы этим ничего не доказываете, вы просто преподносите этот спорный вопрос как уже решенный. Вы начали с того, что Гал. 3:19 относится к церемониальному закону, потому что там говорится о законе, который был дан ангелами. Для того, чтобы ваше доказательство имело какую-то силу, вам следует процитировать по крайней мере еще один текст из Библии, который хотя бы подразумевал, что церемониальный закон был передан ангелами; но вы этого сделать не в силах.
С другой стороны, существует очень прочная взаимосвязь между ангелами и передачей 10 заповедей на Синае. Сначала я приведу ссылку на Пс. 67:18: «Колесниц Божиих тьмы, тысячи тысяч; средиих Господь на Синае, во святилище». А теперь сошлюсь на Втор. 33:2: «Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых ( т.е. ангелов); одесную Его огнь закона». Эти тексты ясно свидетельствуют о том, что ангелы Божьи присутствовали на Синае, когда был произносим закон. Очевидно, что они присутствовали там с определенной целью, но мы не можем с уверенностью сказать с какой именно. Далее, мы находим еще более яркое свидетельство в обращении Стефана к синедриону (Деян. 7:51-53) «Жестоковыйные! Люди с необрезанным сердцем и ушами! Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие Праведника, Которого предателями и убийцами сделались ныне вы, - вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили». [33] Эти нечестивые евреи не соблюли нравственный закон, который, по словам Стефана, был дан «при служении ангелов». Именно это же словосочетание в Гал. 3:19 переведено как «преподан через ангелов». Слово diatasso, переведенное как «преподан», согласно Лидделлу и Скотту означает «выстраиваться в ряд, предписывать, упорядочивать, выстраивать армию». В Деян. 7:53 слово «при служении», diataxisявляется существительным, производным от глагола diatasso, и означает «размещение, расположение, особенно при построении войск, боевой порядок». Эти слова также имеют значение «издавать предписание», «велеть», хотя предыдущие значения, похоже, также передают смысл слов в процитированных выше ссылках.
Рассматриваемый текст не говорит о том, что ангелы изрекли закон, и мы прекрасно знаем, что они не произносили ни нравственный, ни церемониальный законы. Сам Господь произнес оба закона: один напрямую людям, а другой – Моисею, а ангелы присутствовали там, очевидно в строевом порядке, как воинство небесное. Однако, никто не может сказать, какую именно роль они выполняли, поскольку Библия не дает точного ответа на этот вопрос. Я утверждаю лишь только то, что Писание говорит о них как о существах, непосредственно присутствовавших во время передачи нравственного закона; в то время как в Библии нет ни единого текста, в котором о них было бы сказано в связи с передачей церемониального закона; а текст из книги Деяний ясно повествует о том, что нравственный закон был дан «при служении ангелов». Те, кто пытаются доказать, что в послании к Галатам речь идет о церемониальном законе, главным образом опираются на выражение «преподан через ангелов», но даже оно свидетельствует против такого мнения.
Во-вторых, различие, проведенное между нравственным и церемониальным законами, а именно, то, что нравственный закон был произнесен Господом, а церемониальный закон Моисеем, не выдерживает критики. Процитированные вами тексты свидетельствуют против этого различия. Я возьму первый из них – Лев. 26:46, где сказано: «Вот постановления и определения и законы, которые постановил Господь между Собою и между сынами Израилевыми на горе Синае, чрез Моисея». Это последний текст главы. А первые два текста этой главы гласят: [34] «Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться пред ними, ибо Я Господь Бог ваш. Субботы Мои соблюдайте и святилище Мое чтите: Я Господь». А далее в главе даются наставления о том, чтобы соблюдать заповеди Божьи и ходить по Его уставам, там также говорится о том, какие суды обрушатся на них, если они нарушат заповеди, особенно субботу, а завершается глава словами процитированными ранее. Однако во всей главе нет ни единого указания на церемониальный закон.
Ваша следующая ссылка Чис. 4:37 не имеет никакой связи ни с нравственным, ни с церемониальным законом. Здесь просто повествуется о том, как Моисей и Аарон исчислили роды Каафовы «по повелению Господню, данномучрез Моисея».
Ваша третья ссылка, Чис. 15:22, 23, бесспорно указывает исключительно на нравственный закон. Это можно увидеть, прочитав эти тексты вместе с текстами 24, 25, 26. Я процитирую их: «Если же преступите по неведению и не исполните всех сих заповедей, которые изрек Господь Моисею, всего, что заповедал вам Господь чрез Моисея, от того дня, в который Господь заповедал вам, и впредь в роды ваши, - то, если по недосмотру общества сделана ошибка, пусть все общество принесет одного молодого вола во всесожжение, … и очистит священник все общество сынов Израилевых, и будетпрощено им, ибо это была ошибка, и они принесли приношение свое в жертву Господу, и жертву за грех свой пред Господом, за свою ошибку; и будет прощено всему обществу сынов Израилевых». Все эти искупительные жертвы должны были быть принесены за нарушение того, что заповедал Господь через Моисея. Но только нарушение 10 заповедей является грехом.
Ваша последняя ссылка Неем. 9:13, 14 может относиться как к нравственному, так и церемониальному закону. Я привожу эти тексты: «И снисшел Ты на гору Синай и говорил с ними с неба, и дал им суды справедливые, законы верные, уставы и заповеди добрые. И указал им святую Твою субботу и заповеди, и уставы и закон преподал им чрез раба Твоего Моисея». [35] Это единственный из всех приведенных вами текстов, который даже по смыслу указывает на церемониальный закон. И, конечно же, это натянутый вывод, который ограничивает применение выражения «чрез раба Твоего Моисея» только той частью 14 текста, где говорится о законе. В любом случае, если все остальные тексты и говорят о каком-то законе вообще, то они указывают исключительно на нравственный закон, о котором сказано, что он был дан рукою Моисея.
Вы можете сказать, что я стер различие между нравственным и церемониальным законами, и открыл врата для врагов закона, которые желают смешать эти два закона. Нет, я этого не сделал. Я просто процитировал те тексты, на которые ссылались вы, и показал их истинное значение. Эти два закона невозможно перепутать, поскольку нам известны их отличительные признаки: нравственный закон был внятно произнесен Богом из среды огня и дыма на горе Синай. Таким способом были переданы только 10 заповедей (Втор. 5:22), и толькоони были записаны на каменных скрижалях перстом Божьим. Церемониальный закон был дан менее публичным образом. Этот факт, конечно же, не позволит нам перепутать их. Однако, как мы уже убедились на основании вышеперечисленных текстов, оба закона были переданы через Моисея и были записаны в книгу закона; но между ними существует одно важное отличие: церемониальный закон был записан только в книге, а нравственный закон был записан как на каменных скрижалях перстом Божьим, так и в книге. То, что словосочетание «закон Моисеев» иногда относится к 10 заповедям, очевидно всякому читателю, который внимательно изучит следующие отрывки: Втор. 4:44 – 5:22 и далее; Иис. Н. 23:6, 7; 3 Цар. 2:3, 4; 4 Цар. 23:24, 25 и т.д. Также читайте книгу «Великая борьба», том 2, стр. 217, 218, начиная с последнего абзаца на стр. 217. С другой стороны, понятие «закон Господень» употребляется в отношении церемониальных повелений. Например, прочитайте Лк. 2:23, 24. Таким образом, термины «закон Моисеев» и «закон Господень» попеременно используются в отношении обоих законов.
В-третьих, в отношении последней части Гал. 3:19 вы говорите, что все согласны в том, что этим посредником был Моисей. Я с этим не согласен; и я думаю, что ни текст, ни контекст, не дают нам никаких оснований для такого предположения. [36] В следующем тексте апостол продолжает: «Но посредник при одном не бывает, а Бог один». Теперь я открываю 1 Тим. 2:5 и читаю: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Бог является одной из сторон соглашения, а Христос является посредником. Я полагаю, вы не будете подвергать сомнению высказывание о том, что Христос был Тем, кто произнес 10 заповедей с горы Синай. В книге «Великая борьба», том 2, стр. 217 (относительно нагорной проповеди) мы читаем: «Тот же самый голос, который произнес нравственный и церемониальный законы, ставшие основанием всей еврейской системы богопоклонения, также изрек и слова наставления на Масличной горе». Об этом же свидетельствует и рассматриваемый нами текст, а также Деян. 7:38, где Стефан говорит о Моисее: «Это тот, который был в собрании в пустыне с Ангелом, говорившим ему на горе Синае, и с отцами нашими». Как мы все понимаем, этим ангелом является Тот, кто говорил с Моисеем из среды горящего куста, Тот, кто шел пред сынами Израиля, Тот, чье имя превыше всякого имени, это был никто иной, как наш Господь Иисус Христос. Если бы я посчитал необходимым, то я бы привел множество свидетельств из Писаний на эту тему. Итак, рассматриваемый текст, как я уже доказал на основании ваших ссылок, учит нас тому, что закон был дан на горе Синай по причине преступлений, т.е. для того, чтобы люди знали, что такое грех и могли с благодарностью оценить прощение, предоставленное им в завете, который был заключен с Авраамом; а также учит нас тому, что закон был дан до времени пришествия семени, к которому относится обетование; а также апостол показывает величие и достоинство закона тем, что он был дан при служении ангелов, рукою великого Посредника, нашего Господа Иисуса Христа.
Я уделю существенное внимание выражению «до времени пришествия семени, к которому относитсяобетование», и покажу, как оно гармонирует с другими выражениями в этом тексте, которые я уже объяснил. Сначала я приведу цитату, относящуюся к этому отрывку, из вашей брошюры. Вы говорите: «Мы кратко отметим еще один аргумент, это совсем недавнее изобретение и его цель – уклониться от вывода о том, что срок действия «данного после» закона истек на кресте. Это утверждение состоит в том, что «семя» еще не пришло и не придет до дня второго пришествия Христа. До того как автор прочитали об этом в нашем любимом журнале «Знамения времени» от 29 июля 1886 года, стр. 46, ему тяжело было бы даже представить себе, [37] что кто-либо из верующих во Христа может занять такую позицию».
Если бы эти слова были написаны посторонним человеком, то я бы подумал, что они являются умышленным искажением фактов; ибо они, безусловно, представляют в ложном свете ту точку зрения, которой я придерживаюсь, и которую я опубликовал. Я со всей тщательностью перечитал мои статьи в поисках какого-либо неподходящего выражения, которое содержало бы мысль о том, что Христос, обетованное семя, еще не пришел, но я не нашел ни единого намека на такую идею. Не смотря на это, я не думаю, что вы стали бы преднамеренно искажать чьи-либо слова. Я могу объяснить вашу несостоятельность правильно изложить мою точку зрения только слишком поспешным чтением моей статьи. Меня это совсем не удивляет. В виду ограниченности свободного времени и обремененности множеством забот, которые отвлекают ваши мысли, вы не уразумели основную мысль, особенно если учесть то, что ранее ваш разум с этой идеей не встречался. Хотя ваше неверное толкование моей позиции было неумышленным, тем не менее, оно содержит ошибочное представление о том, чему я учу.
Выдвигаемый мною аргумент не является таким уж недавним изобретением, как вам кажется. Я придерживаюсь этого мнения уже несколько лет, и не я являюсь его автором. Но даже если бы эта мысль была совершенно новой, то это никоим образом не умаляло бы её достоинств; ибо «всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое» (Мф. 13:52).
Верно то, что я считал и считаю, что пришествие семени, о котором сказано в Гал. 3:19, указывает на второе пришествие Христа; но это не подразумевает, что Христос еще не приходил или, что он не является семенем. Вы часто проповедуете о том, что Господь грядет, и вы обязательно приводите такие тексты из Писаний как Пс. 49:3, 4; 1 Кор. 4:5 и множество других. Теперь, если человек, услышавший вашу проповедь, выйдет из дома молитвы и скажет, что вы не верите в то, что Господь пришел 1800 лет назад, то его слова будут звучать столь же странно, как и ваши, когда вы заявляете, будто я учу о том, что Христос не приходил. В Ветхом Завете мы находим много свидетельств о приходе Христа; некоторые из них говорят о его первом пришествии, а некоторые о втором. Единственный способ провести различие между ними заключается в рассмотрении событий, [38] сопутствующих этим указаниям на Его пришествие. То же самое мы должны сделать в отношении Гал. 3:19.
Есть только одна причина, на основании которой вы можете утверждать, что пришествие семени не может относиться ко второму пришествию Христа, и этим основанием является утверждение, что тогда Он уже не будет семенем; т.е. что Он является семенем, только во время Его первого пришествия. Но такое утверждение не выдерживает никакой критики, ибо Христос в той же самой мере является семенем, когда он поражает змея в голову, и когда Он сам был поражаем. Он будет семенем, когда исполнится обетование, относящееся к Нему. Следовательно, дело обстоит так: Христос является семенем, поэтому выражение «до пришествия семени» равносильно выражению «до пришествия Христа». Далее следующий вопрос: «Относится ли выражение «пришествие Христа» сугубо к Его первому пришествию?» Конечно же, нет, поскольку в Писании говорится о двух пришествиях, и такое простое выражение как «пришествие Христа» может относиться к любому из них. По этой причине нам не следует одновременно относить его к первому и ко второму пришествию. Конечно же, на основании уже свершившихся событий мы можем сказать, что существует больше вероятности того, что это выражение может указывать на второе пришествие Христа, потому что оно более известно, и потому что мы всегда себе представляем второе пришествие, когда это выражение звучит без уточнений. Но в любом подобном случае, мы принимаем решение о каком пришествии идет речь исходя из контекста.
На мой взгляд, основной причиной применения Гал. 3:19 к первому пришествию Христа является невнимательное чтение текста. Вы утверждает, будто он гласит: «до времени пришествия семени, о котором дано обетование» (прим. пер.: в англ. языке толкование этой части текста, предложенное пресвитером Батлером, совпадает с русским каноническим переводом). Но в тексте написано ( прим. пер.: далее идет почти дословный перевод с английского текста БиблииKJV): «до времени пришествия семени, которому было дано обетование». Апостол говорит не о том, что семя было обещано Аврааму, он говорит об обетовании, которое было дано Аврааму и его семени, и этим семенем является Христос. Теперь, если вам удастся найти хотя бы одно обетование, которое было исполнено для Христа во время его первого пришествия, тогда у вас было бы основание отнести Гал. 3:19 к первому пришествию Христа. Но вы такого текста не найдете. Тогда Христос не получил абсолютно ничего; для него не было исполнено ни единой частички обетования. Он встречал только отказы, упреки, насмешки, бедность, усталость, бичевание и смерть. Более того, обетование, данное «Аврааму и семени его» было комбинированным обетованием; [39] и, конечно же, во время первого пришествия Христа для Авраама никакое обетование не исполнилось, так как к тому времени прошло уже 2000 лет со времени его смерти.
То, что апостол связывает пришествие семени с исполнением данного ему обетования, становится очевидным после простого прочтения текста. Определенное обетование было дано Аврааму и его семени, и еще нечто особое было дано для определенной цели, до тех пор, пока не придет семя, которому было дано обетование. После прочтения этого текста, определив истинный вес каждой фразы, мы неизбежно приходим к выводу, что семя получит обетованное в момент указанного пришествия. Немного позднее я предоставлю дополнительные размышления по этой теме.
Нам нет нужды делать догадки относительно того, о каком обетовании идет здесь речь. Текст 18 гласит: «Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию; но Аврааму Бог даровал оноепо обетованию»; а затем 19 текст продолжает: «Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относитсяобетование». Это убедительно доказывает, что данное обетование является наследством. Обещанным наследством является весь мир (Рим. 4:13); и нет необходимости представлять доказательства того, что наследие все еще находится в будущем. Христос не получил его, ибо мы сонаследники Ему; и также получим его по вере. И это лишает ценности ваш аргумент о том, что «обетования данные семени, многим из них, простираются далеко за пределы второго пришествия (подобно обетованию, записанному в Ис. 9:6, 7) в самую вечность. Итак, исходя из этих умозаключений, мы можем ожидать пришествия семени на протяжении всей вечности». Этот аргумент может доказать только то, (если он вообще в силах доказать что-либо), что данное Аврааму и его семени обетование никогда не будет исполнено, а это противоречит слову Божьему. Но, как мы уже видели, в 19 тексте речь идет не о многих обетованиях, а только об одном обетовании – о наследии, и это обещанное наследие будет получено при втором пришествии Иисуса Христа и не ранее.
Но вы говорите, что даже это обетование не будет исполнено до окончания тысячи лет, [40] то, следовательно, если пришествие семени не произойдет до тех пор, пока не исполнится пророчество, тогда «семя не может прийти до конца тысячи лет; ибо к тому времени земля еще не будет принята в наследие Авраамом». Этот аргумент действительно можно назвать «недавним изобретением». Я уверен, что оно ново в среде нашего народа. Верно то, что святые не будут обитать на земле до окончания тысячи лет, но неверно то, что они не будут обладать ею или не унаследуют её к тому времени. Если они действительно не вступят во владение ею, то что же тогда имел в виду Христос в Мф. 25:31-34, где он говорит, что, когда Он придет в Своей славе со всеми святыми ангелами, Он будет сидеть на троне Своей славы и отделит праведных от нечестивых и скажет праведным: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира». Вы допускаете ошибку, предполагая, что святые не смогут обладать землею до тех пор, пока они не будут жить на ней. Если бы это было так, то это было бы применимо в той же степени и к Христу: Он не может обладать ею до тех пор, пока не будет обитать на ней; но в Пс. 2:8, 9 мы читаем слова Отца, обращенные к Сыну: «Проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе; Ты поразишь их жезлом железным; сокрушишь их, как сосуд горшечника». Из этого отрывка, а также из Отк. 11:15-19 и других текстов, мы узнаем, что Христос получает царство непосредственно перед Своим пришествием на землю. Он сокрушит народы, как сосуд горшечника, только после того, как все пределы земли будут даны ему во владение. Если бы Христос не вступил во владение землей, то Он бы не имел право так поступить с народами. Сегодня нечестивые слуги сатаны притязают на владение землей, которая была обещана Христу. Когда это обетование исполнится, и земля будет отдана Ему во владение, тогда Он очистит её от тех, кто незаконно захватил Его владычество. Он наследует землю, когда нечестивые все еще живут на ней, но Он не может поселиться на ней до тех пор, пока они не будут удалены. Мы говорим, что Он не может обитать на ней, не потому что у Него нет на это власти, а потому что Он не может сделать её своим обиталищем, пока она не будет очищена. Однако, тот факт, что Он поступает с народами по Своей воле, искореняя их из земли, свидетельствует о том, что земля действительно находится в Его владении. [41]
Тот же самый аргумент имеет отношение к святым. Они являются сонаследниками Христу. Это означает, что они получают свое наследие в то же время, что и Он. Когда Он придет на эту землю, приняв во владение Свое царство, Он призовет их наследовать его вместе с Ним. Они не сразу поселятся на земле, но они будут жить в ее столице, Новом Иерусалиме, а если кто-то владеет столицей некого царства, то это свидетельствует о том, что он владеет всем царством. Более того, на протяжении тысячи лет святые восседают на тронах, судят нечестивых и определяют меру их наказания. Таким образом, они являются соучастниками Христа в деле освобождения их общего наследия от незаконных владельцев. Это похоже на то, как если бы вы и я совместно владели фермой. В определенный момент мы вступаем во владение этой землей, но обнаруживаем, что она полностью заросла колючками и вереском; и поэтому, прежде чем мы начнем обитать на ней, мы очистим ее от этой сорной травы и сожжем ее. Нечестивые являются плевелами, которые засоряют ферму, обещанную Аврааму и его семени; и когда Аврааму и его семени будет дано их владение, они очистят его от нечистой поросли и затем станут жить в своем владении. Это краткое доказательство ясно указывает на то, что мы с вами уже признали, т.е. что Христос и святые вступят во владение царством, когда Христос придет во второй раз. Согласовав эти пункты, а именно, что обетование, данное Аврааму и его семени, исполнится во время второго пришествия Христа, мы готовы продолжать. Основная идея этой главы – это то, какими средствами будет получено обетованное. Обетование является самой главной мыслью в этом тексте. Апостол показывает, что наследие обретается исключительно по вере, т.е. не по закону, а по вере в обетование, а затем он переносит нас в то время, когда обетование будет исполнено. Самым естественный и простой вывод, находящийся в гармонии с текстом – «пришествие», о котором здесь говорится, является вторым пришествием Христа, это то время, когда обетование исполнится. Я думаю, что вы не заметили параллельный текст, который я привожу в моих статьях. Это Иез. 21:26, 27: «Так говорит Господь Бог: сними с себя диадему и сложи венец; этого уже не будет; униженное возвысится и высокое унизится. [42] Низложу, низложу, низложу и его не будет, доколе не придет Тот, Кому принадлежитон, и Я дам Ему». Здесь, в словах «Тот, Кому принадлежитон», мы находим безошибочное указание на семя. Здесь ясно сказано, что когда «Тот, Кому принадлежитон» придет, то наследие будет отдано Ему. Эти слова были записаны почти за 600 лет до первого пришествия Христа, однако, у меня нет необходимости вступать с вами в прения для того, чтобы убедить вас, что здесь не говорится о первом пришествии Христа. В Гал. 3:19 Павел говорит о наследстве: «до времени пришествия семени, к которому относитсяобетование»; в только что процитированном тексте из книги Иезекииля пророк также подразумевает наследство и говорит «доколе не придет Тот, Кому принадлежитон». Теперь, скажите, что абсурднее: сказать, что первое выражение относится ко второму пришествию Христа, или же ко второму пришествию Христа относится второе выражение?
Если вы говорите, что пришествие семени не имеет отношения ко второму пришествию, потому что, когда произойдет данное пришествие, тогда церемониальный закон должен будет прекратить свое действие, тогда вы считает спорный вопрос решенным и не требующим доказательств. Если же, как вы пишете в вашей брошюре, мы соотнесем тот приход со вторым пришествием, а тот закон – с нравственным законом, тогда это будет означать, что при втором пришествии Христа нравственный закон прекратит свое действие; на это я уже дал ответ, показав, что слова «до», «доколе» или «пока не» не обязательно указывают на истечение срока или предел. Я твердо верю, что здесь речь идет о нравственном законе, и что пришествие семени является вторым пришествием Христа, но я не верю, что с пришествием Христа нравственный закон потеряет свою силу; и Гал. 3:19 также не говорит о том, что это произойдет.
Чтобы обосновать вашу точку зрения, заключающуюся в том, что пришествие семени не может иметь отношения ко второму пришествию Христа, вам будет необходимо показать, что Христос был семенем только при Его первом пришествии, а после истечения того времени Он уже больше не является семенем. Но в Быт. 3:15 сказано не только о том, что змей будет жалить семя в пяту (во время первого пришествия), но и о том, что семя будет поражать змея в голову (во время второго пришествия). Когда Христос придет во второй раз, Он по-прежнему будет оставаться семенем. Поэтому, когда Павел говорит «до времени пришествия семени», то это выражение не нужно ограничивать только первым пришествием, и оно равносильно тому, если бы он сказал «до времени пришествия Господа».[43]
Предвидя ваш аргумент о том, что Христос не поразит голову сатаны в момент Его второго пришествия, а только спустя 1000 лет, я напомню вам, что нечестивые также не получат своего воздаяния, доколе не пройдет 1000 лет; и все же о них написано, что они будут покараны во время Его пришествия. И это действительно так, потому что первое пришествие охватывает все время Его земного служения; второе пришествие охватывает все время от момента «явления знамения Сына Человеческого на небе», до окончательного уничтожения нечестивых.
До сих пор ваша аргументация, относящаяся к пришествию семени, была безрезультатной и бессильной обосновать ваши возражения. Я не стану приводить прямых доводов в пользу того, что пришествие, на которое указывает этот текст, является вторым. Делая сие, я также приступлю к рассмотрению стихов 22-25, поскольку они имеют тесное отношение к 19- му тексту. Тексты 24 и 25 гласят: «Итак закон был для нас детоводителемко Христу, дабы нам оправдаться верою; по пришествии же веры, мы уже не под руководствомдетоводителя». Не существует такого образа мышления, который бы привел нас к заключению, что эти тексты относятся к церемониальному закону. Они указывают на нравственный закон и только на него, что я сейчас и продемонстрирую.
1. В тексте не сказано, что закон был нашим указателем на Христа; если бы закон указывал на Христа, то тогда можно было бы утверждать, что этот текст относится к церемониальному закону. Написано, что закон был «нашим детоводителем, чтобы привести нас к Христу» или, буквально, «закон был нашим учителем ко Христу», т.е. закон был нашим учителем доколе мы не пришли ко Христу. А церемониальный закон не привел к Христу ни единого человека. Соблюдение церемониального закона было актом веры со стороны того, кто его выполнял, оно было проявлением уже существующей верыво Христа.
2. Вера не освобождала людей от соблюдения церемониального закона, и даже напротив, человек не начинал соблюдать церемониальный закон до тех пор, пока он не уверовал во Христа.
3. 23-ий текст говорит: «А до пришествия веры мы заключены были под стражею закона»; но до прихода веры людям не нужен был церемониальный закон.
4. Если в этом тексте речь идет о церемониальном законе, [44] тогда, согласно 25 тексту, нам следует сделать вывод, что как только люди научатся вере во Христа, то им уже больше не нужен церемониальный закон; но истина заключается в том, что патриархи и пророки с максимальной точностью соблюдали церемониальный закон и никто не имел большей веры, чем они. Возьмем, например Давида, его писания изобилуют ссылками на жертвоприношения и обряды во дворе дома Господня. Он принес множество жертв, и ни один другой библейский писатель не имел более совершенного познания о Христе и не проявил более твердую веру в Него.
5. Вы утверждаете, что апостол рассуждает о диспенсациях, а не о личных опытах, и что привести их к Христу означает привести их к Его первому пришествию и к «системе вероисповедания, которая была введена там в действие». Но таким образом вы занимаете самую слабую позицию, поскольку, если бы значение заключалось в этом, тогда это бы означало, что закон осуществил свою цель только для того поколения, которое жило во время первого пришествия Христа. Если мы применим этот термин в том смысле, в котором вы употребляете его, то это будет означать, что никакое иное поколение не приходило к Нему. Для того, чтобы закон привел людей к Христу, согласно вашей трактовке, т.е. в контексте первого пришествия, он (закон) должен был бы продлить жизни людей. Адаму пришлось бы прожить хотя бы 4000 лет. Ввиду этого позвольте мне снова повторить: этот текст не говорит, что закон был учителем, который указывал на крест, а учителем, который приводил людей к Нему.
6. И снова, текст говорит о том, что закон приводит людей к Христу, чтобы они оправдались верою. Скажите, разве люди оправдываются по вере на основе национального признака? Я только что продемонстрировал что, согласно вашей теории о том, что апостол говорит о диспенсациях, только одно поколение было бы приведено к Христу, а именно то поколение, которому посчастливилось жить во время Его первого пришествия. И очень немногие из них имели хоть какую-то веру. А в совокупности у них не было никакой веры. Тогда им было необходимо оставаться под водительством учителя (детоводителя), т.е. закона, что они и сделали. Оправдание по вере является делом индивидуальным, а не общенациональным. Адвентисты седьмого дня часто говорят о великом свете, которым «мы, как народ» обладаем. Но «мы, как народ» не сможем извлечь из этого света никакой пользы до тех пор, пока каждый из нас в отдельности не обретет этот свет в своем сердце. Я повторю, оправдание по вере – это то, что каждый из нас должен пережить на собственном опыте. [45] Тысячи людей, которые жили во время первого пришествия Христа, ничего не знали об этом опыте, в то время как тысячи людей живших задолго до Его прихода, были фактически приведены к Христу с целью обретения спасения, и они получили его. Авелю праведность была вменена по вере; Ной был героем праведности, которая также по вере; и Авраам в действительности видел день Христа и радовался, хотя умер он за 2000 лет до Его первого пришествия. И это все убедительно доказывает то, что апостол в третьей главе послания к Галатам говорит о личном опыте, а не об изменениях диспенсаций. Христианский опыт, вера, оправдание, праведность – обретаются каждым человеком лично. Люди спасаются лично, а не нациями.
Здесь будет уместным предоставить небольшое объяснение. Если применить термин «под законом» к церемониальному закону, то он не будет иметь то же самое значение, что и в случае, если мы применим его к нравственному закону. По отношению к нравственному закону он означает «осужденный законом»; но он не может иметь такое же значение, если его применить к церемониальному закону, ибо церемониальный закон никого не осуждает. Поэтому, предположив, что это выражение относится к церемониальному закону, мы должны будем прийти к выводу, что «быть не под законом» означает «не быть подвластным ему»; но если мы относим этот термин к нравственному закону, мы не придем к такому выводу, потому что «под законом» означает «осужден законом».
7. Самый сильный аргумент против церемониального закона находится в стихе 24: «Итак закон был для нас детоводителемко Христу, дабы нам оправдаться верою». В нем мы видим неопровержимый факт того, что обладание верой побуждало человека к приношению жертв, а не наоборот: приношение жертв приводило человека к вере. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин». Теперь позвольте задать вопрос: «Как церемониальный закон мог привести человека к обретению того, что он уже имел?» Поскольку вера побудила Авеля и всех остальных приносить Богу жертвы, то как можно утверждать, что жертвы были детоводителемко Христу, дабы они оправдались верою?
Я уже заметил вашу мысль о том, что слово «вера» здесь является синонимичным слову «Христос»; апостол имеет в виду, что прежде, чем пришел Христос мы были под законом; [46] закон был нашим детоводителем, чтобы привести нас к (первому пришествию) Христу, чтобы мы могли быть оправданы Им; а текст 25 означает, что после пришествия Христа мы уже больше не под детоводителем. Я полагаю, что такую позицию обычно занимают те, кто являются сторонниками идеи церемониального закона, и это единственная позиция, которую можно занять, если считать, что в этом отрывке речь идет о церемониальном законе. Не хватает только доказательств. У нас нет никаких оснований считать понятие «вера» синонимичным слову «Христос». Кроме этого, если бы это было так, тогда этот текст учил бы тому, что никто не был оправдан до первого пришествия Христа, а это нелепо и не соответствует Писанию. На основании этих доводов мы должны прийти к выводу, что в этом тексте не рассматривается церемониальный закон.
Очевидно, что тексты 19 и 24 тесно взаимосвязаны, т.е. когда закон пришелили был дан после, он выполнял функцию детоводителя, чтобы привести людей к Христу. Теперь упразднение закона, до того как он привел к Христу всех, кого можно побудить придти к Нему, безусловно было бы несправедливым. Закон должен продолжать оставаться детоводителем или учителем до тех пор, пока все желающие не придут к Христу, а это произойдет только тогда, когда завершится время испытаний и придет Христос. Выполнение законом роли детоводителя не противоречит обетованию, но действует в гармонии с ним. Таким образом: Бог дал Аврааму обетование о том, что он и его семя унаследуют землю. Это обетование было дано Аврааму не потому, что он обладал врожденной праведностью, а потому, что его вера была вменена ему в праведность. Обетование было подтверждено во Христе, т.е. только те, кто проявил веру во Христа ради прощения грехов, полагаются на покаяние в грехах, а раскаяние во грехе предполагает знание о грехе, а знание о том, что такое грех может получено только через закон. Следовательно, закон является детоводителем, учителем или надзирателем, который наполняет человека осознанием своего греха, чтобы он мог искать убежища у Христа, дабы быть оправданным по вере. И закон должен продолжать выполнять эту функцию до тех пор, пока к Христу не придут все те, кого можно убедить придти, и тогда обетование будет исполнено. Тогда закон уже не будет исполнять роль педагога. Весь Божий народ будет праведно ходить в законе, [47] а закон будет в их сердцах. Тогда им не будет нужен закон, написанный в книгах или на каменных скрижалях, т.е. закон данный после, потому что они будут иметь прямой доступ к престолу Бога, и будут все учиться у Бога. Итак, закон был дан после или изречен, чтобы стать детоводителем людей к Христу; но когда все те, кто достойны спасения будут приведены ко Христу, тогда он прекратить исполнять свою роль. Однако это не говорит об упразднении закона при пришествии Христа, также как и факт его провозглашения на горе Синай не говорит о том, что прежде того события закона не существовало. Закон существовал в той же мере, что и сегодня еще до того, как он был изречен на горе Синай и до того, как он был записан на скрижалях ради блага человечества. А когда закон прекратит быть детоводителем, потому что он уже привел к Христу всех тех, кого можно было побудить придти, и когда все земные копии закона буду уничтожены вместе с землей, то даже тогда закон будет продолжать существовать, ибо он является непоколебимым основанием Божьего престола, как в вечности в прошлом, так и в вечности в будущем.
Полагаю, что следующие строки, вышедшие из под пера пресвитера Д. Н. Эндрюса, достойны внимательного прочтения. Это отрывок из его ответа Х. Э. Карвер, опубликованного в Ревью энд Геральд от 16 сентября 1851 года (том 2, №4):
«Очень часто мысль о том, что закон был нашим детоводителем, который должен был привести нас к Христу, дабы мы оправдались верой, выдвигается в качестве доказательства того, что закон был упразднен. Как же закон, наш детоводитель, наш учитель, должен привести нас к Христу? Наш ответ таков: закон указывает на нашу вину, справедливо осуждает нас, а также показывает, что без Спасителя мы потеряны. Вот, что говорит апостол Павел, который был обращен после того времени, которое считают временем упразднения закона: «Но я не иначе узнал грех, как посредством закона» (Рим. 7:7). «Ибо законом познается грех» (Рим. 3:20). Прочитайте полное описание опыта обучения апостола Павла в этой школе, а также о его освобождении от плотских помышлений, которые «закону Божию не покоряются, да и не могут» (Рим. 7:7-25; 8:1-7). Такое наставление относительно закона абсолютно необходимо, ибо без него мы никогда не сможем узнать, в чем же заключается наша вина в глазах Бога. Он указывает на то, что мы справедливо осуждены, его наказание висит над нашими головами; мы понимаем, что мы потеряны и бежим к Иисусу. Что Он делает для того, чтобы спасти нас от проклятия закона? Разве Он упраздняет закон, чтобы спасти преступника закона? Он уверяет нас, что Он не «пришел нарушить закон»; и мы знаем, что закон «свят, праведен и добр», и он не может быть отменен без упразднения власти того, кто дал его. Разве Спаситель изменяет характер закона или смягчает его требования? Отнюдь нет. [48] Он свидетельствует о том, что «ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все» (Мф. 5:18; Лк. 16:17; Иак. 2:10). Он также говорит о том, что согрешающие в сердце своем являются нарушителями закона (Мф. 5:22, 27, 28; 1 Ин. 3:15). Если Спаситель не упразднил закон и не смягчил его требования, то как те, кто пришли к Нему, чтобы укрыться в Нем, могут надеяться на спасение? Что Он делает, чтобы спасти преступника от осуждения закона? Он отдает себя на смерть вместо них. Он отдает «душу Свою для искупления многих» (Мф. 20:28). «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). Хотя человек осужден справедливо, теперь он может быть оправдан, при этом не обесславив Бога и не разорив закон. Бог может быть одновременно праведным и оправдывающим того, кто верует в Иисуса Христа (Рим. 3:25, 26). Если бы закон был упразднен со смертью Христа, то спустя много лет он не смог бы привести галат к Христу. Павел свидетельствует о том, что он «не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил: не пожелай». Но упраздненный закон никогда не смог бы убедить его, преступника, в его грехе (Иак. 2:8, 9; Рим. 4:15). Мы можем познать грех «не иначе … как посредством закона», но если закон был упразднен смертью Христа, то это означает, что мир так и не узнал о своем греховном состоянии и не почувствовал необходимость в спасителе. Мы можем заявлять на основании самого авторитетного источника, что закон приводит нас к вере для оправдания, и что вера не лишает закон силы, но утверждает его (Гал. 3:23; Рим. 3:31). Тот факт, что закон является нашим детоводителем, который указывает на Божьи требования и на то, что мы осуждены – является прямым доказательством того, что закон не был упразднен; однако мы были прощены через смерть Иисуса, и таким образом спасены от его праведного осуждения, всякий раз, когда человек нарушает закон, тогда закон убеждает его в том, что он преступник».
В вашей брошюре (стр. 50) вы уделяете значительное внимание словам «вера» или «та вера», как будто бы слово «вера» может быть использована в ином значении, чем вера во Христа. Но я снова повторяю: 1) не может быть иной веры, кроме веры во Христа; и 2) вера во Христа является личным делом; каждый должен верить лично. Следовательно, вера приходит к каждому человеку индивидуально, а не к целому народу в совокупности. По той же самой причине я не могу согласиться с вашим высказыванием о том, что «вера» подразумевает «целую систему истины, составленной Богом ради спасения людей», и что ее пришествие указывает на откровение Христа и Его первое пришествие. Если бы это заявление было верно, то оно бы доказывало, [49] что система истины, составленная Богом для спасения людей, не была известна до пришествия Христа. Но это настолько противоречит Библии, что даже не нуждается в комментарии. Если проследить вашу теорию до конца, то она неизбежно приведет нас к выводу, что у Бога есть два плана спасения: один для тех, кто жил до Его первого пришествия, а другой для тех, кто жил и живет после него. Это означает, что евреи судимы по одному стандарту, а язычники – по другому. Но та позиция, которую я только что кратко изложил, является последовательной сама по себе, а также согласуется с простыми библейскими истинами, открытыми нам, относительно плана спасения.
Вы говорите (стр. 51): «Нам следует доставить себе удовольствие и попросить наших друзей, которые считают, что закон данный послебыл десятисловным законом, рассказать нам как закон, данный против богохульства, убийства, лжи, кражи и т.д., заключилихпод стражей, в отношениях ребенка и детоводителя, до того [времени], как надлежало открыться вере».
Это я сделаю охотно. Во-первых, в Библии грешники представлены как люди, находящиеся в узах, в тюрьме. См. 2 Пет 2:19; Рим. 7:14; 1 Пет 3:19, 20; Зах. 9:12; Пс. 67:7; 101:20, 21; Деян. 8:23; Евр. 2:14, 15. Христос умер для того, чтобы «избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Именно грех приносит страх смерти, поэтому именно грех заключает людей в узы. Во-вторых, если человек попадает в тюрьму, то это происходит потому, что закон заключает его туда. Всего несколько недель тому назад я слышал, как один судья вынес подсудимому смертный приговор; судья является всего лишь юридическим представителем закона, а поскольку человек был найден виновным, закон требовал его смерти, и судья был просто глашатаем закона. Закон арестовывает преступника, а шериф является всего лишь видимым представителем этого закона. Именно закон заключает узника в тюремной камере, а тюремный надсмотрщик, каменные стены, железные решетки просто служат символами железной руки закона, лежащей на узнике. Если правительство справедливо и если человек действительно виновен, то у него нет возможности избежать наказания, за исключением того случая, когда у него есть влиятельный защитник, который может добиться его прощения и получить помилование от правителя. Также обстоит дело и с теми, кто согрешил против Божьего правления. [50] Глаза Господа на всяком месте и у преступника нет совершенно никакой возможности избежать ареста. Как только он согрешил, он схвачен законом и сразу же осужден на смерть, потому что уже было объявлено, что возмездие за грех смерть. Теперь он со всех сторон заключен в узы законом. Нет ни единой заповеди, которая не была бы против него, потому что на земле нет ни единого человека, который бы не нарушил каждую из них. Сначала грешник может не осознавать, что он находится в заточении; у него нет чувства греха и он не пытается вырваться из уз. Но когда закон применен по отношению к его делу, и он понимает требования закона и свою неспособность выполнить их, тогда он признает свою вину. Доводя эту иллюстрацию до конца, мы можем сказать, что Дух Божий заставляет тюремные стены сузиться над заключенным, он чувствует себя угнетенным; и тут он начинает прилагать отчаянные усилия, чтобы спастись. Он бросается в один угол, но против него восстает первая заповедь и не выпускает его на свободу. Он обращается в другом направлении, но там он произносит имя Бога напрасно, и третья заповедь отказывается предоставить ему свободу в своем направлении. Он совершает еще одну попытку, но он совершил прелюбодеяние и седьмая заповедь препятствует его побегу и становится непреодолимым барьером для заключенного. И так обстоит дело со всеми 10 заповедями. Они полностью отказываются предоставить ему свободу, потому что он нарушил каждую из них, а ходить в свободе может только тот, кто соблюл все заповеди (Пс. 118:45). Он заточен со всех сторон. Тем не менее, есть только один путь побега – через Христа. Христос является дверью (Ин. 10:9), и входящему через неё Он дарует свободу (Ин. 8:36). Поскольку грешник находится в тюрьме и никак иначе не может обрести свободу, кроме как посредством веры во Христа, тогда истинно будет высказывание о том, что он «заточен» до того [времени], когда надлежит открыться вере. Перевод фразы «заключен под стражей» в вашем случае нисколько не влияет на дело. Это равносильно тому, если бы мы сказали, что мы были заключенными в тюрьме. Виночерпий и хлебодар фараона были «отданы под стражу» в той же самой тюрьме, где находился Иосиф (Быт. 40:3).
Теперь, когда речь идет о «заключенных под стражу», то имеются в виду не только одни евреи. Вы сами говорите, что евреи были в таком же бедственном положении, что и язычники. 22-ой текст 3-ей главы послания к Галатам говорит, [51] что «Писание всех заключило под грехом». В этом тексте показано, в чем состоит «заключение». Они находятся в тюрьме, потому что они согрешили. Поэтому Павел говорит евреям: «Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как Иудеи, так и Еллины, все под грехом» (Рим. 3:9). Далее он снова говорит: «Ибо всех заключил Бог в непослушание» (Рим. 11:32). Эти высказывания идентичны тому, что написано в послании к Галатам. Теперь обратите внимание, что во всех этих случаях указано, что они были заключены с одной и той же целью. В Гал. 3:22 написано, что Писание всех заключило под грехом «дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа». В 3-ей главе послания к Римлянам Павел показывает, что как евреи, так и язычники в равной мере находятся под грехом, апостол делает это для того, чтобы доказать, что «правда Божия через веру в Иисуса Христа» может быть «во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе» (т. 22-24). А в Рим. 11:32 апостол утверждает, что Бог заключил всех (как евреев, так и язычников) в непослушание ( прим. пер.:в англ. БиблииKJV написано «заключил всех в неверие»), «чтобы всех помиловать». Все мы находимся в одних и тех же узах – все находятся под законом – и никто не может быть освобожден из заточения до тех пор, пока он или она не придет к Христу. Он является единственной дверью на свободу.
Позвольте мне спросить вас, вы полагаете, что церемониальный закон заключает людей под грехом? Если вы действительно так считаете, тогда вы придерживаетесь мнения, что церемониальный закон является мерилом праведности, и таким образом вы умаляете значение десяти заповедей. Но если вы не придерживаетесь такого мнения, во что я верю, тогда вы признаете, что нравственный закон заключил всех людей и выполняет функцию их надзирателя, чтобы привести их к Христу, дабы они оправдались верою. Я не могу себе представить, что кто-то может иметь иное мнение.
И снова вы говорите: «Мы утверждаем, что выражение «под законом» имеет два значения: 1) быть под властью закона или быть обязанным соблюдать его; 2) быть под осуждением закона, ожидать его наказания или уже страдать от него. [52] Это выражение само по себе не решает, в каком из этих двух значений нам следует его понимать; это решают взаимосвязи».
Было бы уместно, если бы вы, кроме обсуждаемого отрывка, процитировали еще несколько тестов, которые бы свидетельствовали о том, что словосочетание «под законом» может употребляться в значении «подчиненный закону». Для уверенности вы цитируете лексикон Гринфильда, где сказано, что слово hupoиспользуется в значении «зависимость / подневольность подчиненность закону». Но вам следует помнить, что цель лексикона – просто предоставить значение слова, а не принимать решение по пунктам вероучения. Когда Гринфильд пишет, что hupoозначает «под», он говорит об элементарном понятии; но когда он пишет, что оно используется в значении «подчиненность закону», то он просто высказывает свое мнение относительно одного из текстов Писания; а его мнение об одном из тестов Писания не лучше мнения любого другого человека.Несомненно, если бы вы более тщательно исследовали работу Гринфильда, то вы бы совершенно не стали учитывать его мнение в этом вопросе, поскольку он цитирует Рим. 6:14 как пример использования слова hupoв значении «подчиненность закону», а это является единственным текстом, который он приводит в качестве иллюстрации. Вы, так же как и я, ничуть не сомневаетесь в том, что этот текст относится к нравственному закону и только к нему. Итак, если вы соглашаетесь с мнением Гринфильда, как комментатора, то вы будете читать известный текст следующим образом: «Ибо вы не подчинены закону, но под благодатью». Это было бы удобным толкованием для врагов истины, но я знаю, что вы не принимаете такое толкование. Вы позаимствовали у Гринфильда неудачный аргумент. Вы говорите, что «Гринфильд предоставляет разнообразные определения [вам следовало бы сказать разнообразные комментарии], в зависимости от смысла того или иного отрывка, и одним из них является «подчинение закону» и т.д. Он не дает ни единой ссылки на текст, где это выражение было использовано в значении быть подверженным осуждению закона». Т.е. он не указывает ни единого случая, где, по его мнению, оно использовано в значении подчиненный закону, а в приведенном им тексте это выражение бесспорно употреблено в значении «осужденный законом». Здесь я не располагаю временем для того, чтобы подробно изложить каждый текст, в котором встречается выражение «под законом»; я уже сделал это в моих статьях, [53] и вы не заметили или не попытались опровергнуть хотя бы одно из моих утверждений касательно тех текстов. Поэтому я повторяю, что (за исключением Рим. 3:19 и 1 Кор. 9:21, где мы не находим слова hupo, и которые надлежит перевести как «в законе») всякий раз, когда в Новом Завете мы встречаем термин «под законом», он означает «осужденный законом». Он не имеет никаких других значений. Все христиане подчинены нравственному закону, но они не под законом. Если бы они были под законом, то они не были бы христианами.
Вы говорите: «Нравственный закон никогда не приводил человека к Христу, чтобы оставить его там. Он всегда оставался с человеком. Мы можем быть освобождены от его осуждения; но его верховная власть остается неизменной. Он всегда предъявляет свои требования к нам».
Я целиком согласен с этим. Закон не оставляет человека, когда тот приходит к Христу, но отношение человека к закону меняется. Ранее он был «под законом», а теперь он «в законе» (Пс. 118:1), и закон находится в нем (Пс. 36:31). Он находится во Христе, который является воплощением закона, и в Нем человек становится праведным пред Богом (2 Кор. 5:21).
Вы снова говорите о нравственном законе следующее: «В этом законе нет ничего о Христе, ни единого намека. Закон только осуждает тех, кто нарушает его, и оправдывает тех, кто выполняет его. В нравственном законе нет ничего, что могло бы привести человека к Христу, эту работу выполняет чувство вины, возникающее в человеческой совести, на которую влияет Дух Божий».
Это позволяет мне изложить весь мой аргумент. Умоляю, скажите мне, что пробуждает чувство вины в совести человека? Павел говорит, что «законом познается грех». Вы встречали что-нибудь еще, кроме закона Божьего, что могло бы помочь человеку осознать свое греховное состояние? Если совесть сама по себе обладает силой заставить человека осознать свою вину, тогда, прошу вас, скажите мне какую функцию выполняет закон? В чем смысл закона, если только совесть осуждает человека в совершении греха? И если совесть обладает способностью заставить человека осознать свою вину, тогда почему не все люди в одинаковой мере осознают свою вину? Единственная причина, которую можно предоставить, заключается в том, что некоторые люди наставлены в законе лучше, чем другие. Неизбежно напрашивается вывод о том, что именно закон производит в человеческой совести чувство вины, [54] которое ведет его к Христу, если вы, конечно, не отрицаете, что законом познается грех. Так как именно чувство вины, пробудившееся в совести человека, заставляет его идти к Христу, а это чувство вины было произведено ни чем иным, как только законом, то мы можем твердо заявить, что закон ведет людей ко Христу. Такова функция закона по отношению к грешному человеку – охватить его чувством вины и привести его к Христу, чтобы он был оправдан верою. Верно то, что десять заповедей ничего не говорят о Христе, но разве чувство вины в совести человека говорит ему что-нибудь о Христе? Т.е. разве в каждом человеке от природы заложено познание о Христе? Конечно же нет. Но закон порождает в человеке осознание своей вины. Закон делает это только с помощью Духа, ибо Слово Божье является мечом Духа. Но, когда закон, посредством Духа, произвел чувство вины, тогда человек чувствует себя угнетенным и ищет пути освобождения от бремени, и поэтому он вынужден идти к Христу, ибо ему больше некуда идти. В выше указанной цитате вы, пытаясь уклонится от моего вывода, на самом деле, сами пришли к нему. У вас не было другого выхода.
Вы продолжаете: «Но этот «данный после» закон действительно вел к Христу. Каждый образ, каждая жертва, каждое торжество, праздник, новолуние и ежегодная суббота, а также все священнические приношения и служения указывали на что-то в служении Христа. Они были подобны телу, которое «заключено», «находится под стражей», или под контролем этого «жестокого» и «деспотичного» детоводителя до тех пор, пока великая система оправдания по вере не вступила в действие на кресте Христовом. Господин Гринфильд смог с легкостью увидеть, что этот детоводитель должен быть использован как объяснение «закона Моисеева». Удивительно, что все остальные не могут увидеть того же».
Здесь вы сами соглашаетесь с тем возражением, которое я выдвигаю против вашей теории, ведь фактически она подразумевает существование двух планов спасения. Если «великая система оправдания по вере» не вступила в действие до тех пор, пока Христос не был принесен в жертву на кресте, тогда, прошу вас, скажите мне, был ли хоть кто-нибудь оправдан до пришествия Христа, а если и был, то как? Читая Писания, я убеждаюсь в том, что «великая система оправдания по вере» стала известна сразу после того, как грех вошел в этот мир. Я читаю о том, что «верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин; ею получил свидетельство, что он праведен» (Евр. 11:4). [55] А в Пс. 31:1, 2; 67:7; Ис. 1:18, 53:10, 11; 55:6, 7; Авв. 2:4 и во множестве других подобных им текстов я нахожу ясные указания на великую систему оправдания по вере. Некоторые говорят, что сегодня мы обладаем гораздо более глубокими познаниями о плане спасения, чем обладали древние. И действительно, на одной из встреч теологического комитета вы и пресвитер Кэнрайт заявляли, что у патриархов были очень ограниченные познания, если они у них вообще были, о том, что на самом деле совершает Христос; и вы поддержали пресвитера Кэнрайта в его утверждении, что Христос учредил евангелие во время Его первого пришествия. Я не думаю, что вы стали бы занимать такую позицию, если бы только ваша теория не подтолкнула вас к этому. Как Христос, так и апостол Павел основывали свои наставления относительно этой великой системы на основании Ветхого завета и я никогда не видел человека с глубокими познаниями о Боге, который не смог бы понять сути слов Давида и Исаии об оправдании по вере.
В книге Великая борьба, том 1, в параграфе, начинающимся в конце 58 страницы, я читаю о том, что ангелы продолжали общаться с Адамом после его падения и сообщили ему о плане спасения. Безусловно, что Адам ведал о великой системе оправдания по вере, поскольку у него были самые некомпетентные наставники.
После баталий, которые нам пришлось вести с кэмпбеллитами по вопросу ценности писаний Ветхого завета, а также по вопросу единства и универсальности Божьего плана спасения, кажется почти невероятным то, что кто-то осмелится оспаривать точку зрения Адвентистов седьмого дня о том, что сведущий еврей имел полное познание о Христе и оправдывался только через веру.
Последняя цитата, которую я привел из вашей брошюры, завершается следующими словами: «Господин Гринфильд смог с легкостью увидеть, что этот детоводитель должен быть использован как пример, иллюстрирующий «закон Моисея». Удивительно, что все остальные не могут увидеть того же». С таким же успехом я мог бы сказать: «Господин Гринфильд смог с легкостью увидеть, что галатам следовало соблюдать первый день недели. Удивительно, что все остальные не могут увидеть того же». Или же я мог бы сказать: «Господин Гринфильд мог с легкостью увидеть, что выражение «под законом» из Рим. 6:14 означает быть «подчиненным закону». Удивительно, что все остальные не могут увидеть того же». [56] Единственная вещь, которая удивляет меня – это то, что вы прибегли к такому аргументу. Мне все равно, что говорит человек. Я хочу знать, что говорит Бог. Мы учим не на основании слов человеческих, но по слову Божьему. Я воистину убежден, что вы бы не стали цитировать Гринфильда, если бы вам удалось найти библейский аргумент.
И снова, на 54 странице я читаю: «Все, чего требует Бог – это чистое сердце, покаяние и исповедание грехов, вера в драгоценную кровь Христа и твердое решение служить Богу и подчинятся всем Его требованиям».
Ваше высказывание относится ко времени после первого пришествия Христа, а это подчеркивает мое возражение против вашей теории, подразумевающей существование двух планов спасения. Вы можете мне сказать, кроме этого, что еще Бог требовал от евреев? Были ли они приняты Богом благодаря чему-то другому кроме как смиренного сердца, покаяния, исповедания грехов, веры в кровь Христа и твердого решения подчинятся Богу? Воистину, нет.
Теперь я перехожу к краткому критическому отзыву на ваш комментарий к четвертой главе; и первый ваш довод посвящен «вещественным началам мира». На странице 56 вы говорите: «Что это за «вещественные начала», о которых говорит апостол, и которыми они были порабощены до тех пор, пока Бог не послал Сына, который подчинился закону? Разве это заповеди Божьи, закон свободы, тот святой чистый закон, которым будут руководствоваться на суде? Мы думаем, что это было бы самым абсурдным выводом. Мы с уверенностью заявляем, что эти «вещественные начала» указывает на совершенно иную систему. Гринфильд дает следующее определение слова, употребленного в оригинале: «начальные наставления, исходные принципы, первичные начатки знаний, науки и т.д.». в пересмотренном издании и в Диаглотте это слово переведено как «начатки». То же самое слово употребляется в Кол. 2:20, где оно переведено как «стихии»».
Меня никогда не обвиняли в абсурдности заявления о том, что эти «вещественные начала» являются Божьими заповедями. Я, так же как и вы, уверен, что они относятся к чему-то иному. Павел говорит мне, что подразумевается под ними, когда называет их «вещественными началами мира». Вы говорите, что здесь речь идет о церемониальном законе. Будьте добры, скажите мне, как был связан мир с церемониальным законом? Если церемониальный закон был вещественными началами мира, тогда миру следовало бы принять его, а не презирать евреев за него, поскольку мы знаем, что мир любит свое. [57] Скажите мне, пожалуйста, как вы согласовываете высказывание о том, что церемониальный закон является вещественными началами мира, с вашим предшествующим высказыванием о том, что он был «преподан ангелами»?
Даже если вы переведете это слово как «начатки», то линия аргументации не изменится ни на йоту. Я с готовностью утверждаю, что «стихии мира» в Кол. 2:20 имеют то же самое значение, что и «вещественные начала мира» в Гал. 4:3. Я также утверждаю, и думаю, вы не станете отрицать этого, что термин «стихии мира» в Кол. 2:8 имеет то же самое значение, что и в 20 тексте. Это один и тот же термин. Теперь, в 1 томе «Свидетельств» в 9 главе «Философия и пустое обольщение» сестра Уайт цитирует Кол. 2:8 и говорит, что ей было показано, что этот текст напрямую связан со спиритизмом. Т.е. философия пустого обольщения или спиритизм являются «стихиями мира». Станете ли вы утверждать, что существует какая-то связь между церемониальным законом и спиритизмом? Согласуется ли спиритизм с церемониальным законом, который был дан евреям самим Богом? Никак. Но он согласуется с вещественными началами мира, «по обычаю мира сего, по волекнязя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева» (Еф. 2:2, 3). «Вещественные начала мира» являются тем, «что в мире», а именно, «похоть плоти, похоть очей и гордость житейская» (1 Ин. 2:15, 16). Они «не есть от Отца», но «от мира»; этим занимаются те, кто не знают Бога, и мы были подчинены всеми этим вещам до тех пор, пока мы не были оживотворены благодатью. Здесь имеется в виду не то, что вы пишете на стр. 57 о том, что «эти «стихии» или «вещественные начала», под которыми они находились, привели их в «рабство», а то, что эти стихии или вещественные начала сами по себе были узами– рабством тления.
Один из абзацев на 58 странице содержит несколько пунктов, на которые я бы хотел обратить особое внимание, поэтому я полностью цитирую его: «В тексте 4, где Павел говорит о том, что Бог послал Своего Сына, «Который родился от жены», есть выражение «подчинился закону». [58] Мы уже рассматривали значение термина «под законом» и показали, что он не всегда означает быть под осуждением закона, но скорее означает «быть подвластным закону» или «быть обязанным соблюдать его».
Очевидно, что в этом тексте этот термин имеет именно такое значение. Как пересмотренная версия, так и Диаглотт переводят словосочетание «подчинился закону» как «рожденный под законом». Гринфильд, предоставляя определение слова оригинала, имеющего множество значений, соотносит его употребление в 4 тексте со следующей формулировкой: «подчиненный закону». Очевидно, что это точное значение, в котором его следует использовать. Неверно то, что наш Спаситель был рожден под осуждением Божьего закона. Это явный абсурд. Мы признаем, что Он добровольно взял на себя грехи этого мира и принес себя в жертву на кресте; но он не был рожден под его осуждением. Если бы мы сказали, что Тот, Кто был чист и не совершил ни единого греха в своей жизни, был рожден под осуждением Божьего закона, то это было бы полным искажением истинной теологии».
1. Что касается значения термина «под законом», вы показали, что «он не всегда означает быть под осуждением закона, но скорее означает – быть подвластным закону или быть обязанным соблюдать его». Я тщательно перечитал все предыдущие ссылки на это выражение, и хотя я нахожу несколько притязаний на этот счет, однако ни одно из них не может быть доказательством. Для обретения уверенности вы цитируете Гринфильда, но я не считаю его утверждения более ценными, чем утверждения любого другого человека. Ввиду ограниченных размеров этого письма, я не могу процитировать все ссылки на термин «под законом» и раскрыть пред вами его значение, однако я хочу подчеркнуть следующее: это выражение встречается в Рим. 6:14, 15 и в Гал. 5:18. Читая эти отрывки, у исследователя не возникает ни малейших сомнений, что оно означает «осужденный законом». В этих текстах вы бы не осмелились истолковать его в значении «подчиненный закону». Двух мнений относительно употребления этого термина в указанных текстах быть не может. Мы следуем твердому принципу толкования Библии, который гласит, что разногласия касательно противоречивых текстов Писания должны разрешаться на основании тех текстов, которые предельно ясны. Более того, последовательность требует того, чтобы один и тот же термин сохранял то же самое значение в любом библейском тексте, если только контекст, вне всякого сомнения, не указывает на иное значение. Теперь, в Библии нет такого места, где выражение «под законом», переведенное как «осужденный законом» могло бы исказить его смысл. [59] А в тексте, на который я только что сослался, оно никак не может означать «подчиненный закону». Если бы рамки этого письма позволяли мне сделать это, то я бы доказал на примере неопровержимых доказательств из Писаний, а не на основании цитат из комментариев, что фраза «под законом» всегда означает «осужден законом», и она никак не может иметь какое-либо иное значение. Конечно же, я не говорю о двух местах 1 Кор. 9:21 и Рим. 3:19, где в оригинале это слово отсутствует.
2. Я должен снова возразить против мнения комментаторов. Вы говорите: «Гринфильд, предоставляя определение слова из языка оригинала, имеющего множество значений, соотносит его употребление в 4 тексте со следующим значением – подчиненный закону. И, очевидно то, что это точное значение, в котором его следует использовать». Почему вы утверждаете, что это точное значение, в котором его следует использовать? Потому что так говорит Гринфильд? Разве мы должны принимать все мнения Гринфильда, как последнюю инстанцию в вопросах веры? Я бы не стал делать этого. Пожалуйста, поймите меня верно. Я не хочу бросить ни тени сомнения на Гринфильда, как на лексикографа, но я бы не стал полагаться на его мнение, как комментатора. Когда Гринфильд дает элементарное значение слова, то его следует принимать, при условии, что оно согласуется с определениями, указанными в классических словарях; ибо слова не используются в Писании в особом, библейском значении, а в своем обычном, принятом значении. Но когда Гринфильд, или любой другой человек, говорит, что слово, имеющее несколько разных оттенков значения, в указанном тексте имеет определенное значение, тогда он просто выражает свое мнение, относящееся не к значению слова, а к значению текста. И когда он так поступает, тогда любой человек может бросить вызов его мнению и потребовать доказательств. Если мы станем ссылаться на мнение человека, как на авторитетный источник, тогда мы с легкостью можем превратиться в папистов; ибо сущность папства заключается в том, чтобы пригвоздить веру отдельной личности к человеческому мнению. И не важно, придерживаемся ли мы мнению одного человека или сорока людей; не важно, сколько у нас римских пап один или сорок. Если комментарий к Библии или отдельной её части был составлен человеком, тогда нет никаких оснований для того, чтобы оставить его мнение без возражений. Ведь он всего лишь человек. Адвентисты седьмого дня среди всех людей мира должны быть свободны и не должны зависеть от мнения людей. [60] Они должны действительно быть протестантами, проверяя все исключительно по Библии.
3. Теперь, что касается толкования выражения «родился от жены, подчинился закону» в Гал 4:4 ( прим. пер.: в английском тесте Библии оно звучит «родился под законом»). Я не нахожу никакого недостатка в толковании «родился от жены, подчинился закону», и считаю, что это верное толкование. Я пойду дальше, чем вы и представлю Библейские доказательства по этому пункту.
Ин. 1:1, 14 «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». «И Слово стало плотью, и обитало с нами». Слово, переведенное как «стало» является тем же самым словом, которое употреблено в Гал. 4:4 и очевидно означает «родился». Слово было Бог, однако родилось во плоти от девы Марии. Я не знаю, как это произошло; я просто принимаю то, что говорит Библия. Теперь прочитаем Рим. 8:3 и узнаем какой является природа плоти из которой Слово стало быть: «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертвуза грех и осудил грех во плоти». Христос был рожден в подобии плоти греховной.
Фил. 2:5-7: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек». Теперь обратите внимание на следующий текст: «смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной». А теперь, сравните предыдущие отрывки с Евр. 2:9: «но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, Который не много был унижен пред Ангелами, дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех».
Эти тексты свидетельствуют о том, что Христос взял на себя человеческую природу и, как следствие, Он был подчинен смерти. Он пришел в этот мир с той целью, чтобы умереть; и с самого начала Своей земной жизни он был в том же состоянии, что и люди, ради спасения которых Он умер. А теперь прочитаем Рим. 1:3: «О Сыне Своем, Который родился от семени Давидова [61] по плоти». Какой была природа Давида «по плоти»? Греховной, не так ли? Давид говорит: «Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя» Пс. 50:7. Не содрогайтесь от ужаса, я не имею в виду, что Христос был грешником. Я объясню это обстоятельней немного позже. Но сначала я бы хотел процитировать отрывок.
Евр. 2:16, 17: «Ибо не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамово. Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа».
Фразы, гласящие о том, что Он во всем уподобился своим братьям, что Он был в подобии плоти греховной, и по виду стал как человек – равнозначны. Одна из самых воодушевляющих мыслей в Библии заключается в том, что Христос взял на себя человеческую природу; Его предки по плоти своей были грешниками. Когда мы читаем описание жизни прародителей Христа и видим, что они имели такие же слабости и переживания, которые есть у нас, то мы понимаем, что никто из людей не имеет права оправдывать свои греховные поступки на том основании, что греховность досталась ему по наследству. Если бы Христос не уподобился во всем братьям, то Его безгрешная жизнь не стала бы источником воодушевления для нас. Мы могли бы смотреть на Него с восхищением, но это восхищение привело бы нас к безнадежному отчаянию.
А теперь перейдем к другому параллельному тексту Гал. 4:4, который служит еще одним источником ободрения для нас, сначала я процитирую 2 Кор. 5:21: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвоюзагрех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом».
Теперь ответим на вопрос: когда Иисус стал « жертвою загрех» (прим. Пер.: в английском тексте Библии написано «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас грехом»)? Должно быть это произошло тогда, когда Он стал плотью и начал страдать от искушений и слабостей, которые свойственны греховной плоти. Он на собственном опыте прошел через все фазы человеческого опыта, будучи «искушен во всем, кроме греха». Он был мужем скорбей, изведавшим печали. «Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни» (Ис. 53:4); и Матфей пишет, что это писание о Нем исполнилось еще задолго до распятия. Поэтому я говорю, что Его подчинение закону было неизбежным следствием того, [62] что Он родился в подобии плоти греховной, что он принял природу Авраама. Он сделался подобным человеку, чтобы претерпеть смерть. С самого раннего детства он всегда видел перед собой крест.
4. Вы говорите: «Мы признаем, что Он добровольно взял на себя грехи этого мира и принес себя в жертву на кресте; но Он не был рожден под его осуждением. Если бы мы сказали, что Тот, Кто был чист и не совершил ни единого греха в своей жизни, был рожден под осуждением Божьего закона, то это было бы полным искажением истинной теологии».
Это может быть искажением теологии, но оно находится в совершенной гармонии с Библией, и в этом заключается основная мысль. Разве вы не видите, что ваше возражение противоречит вашей позиции в той же мере, в которой оно противоречит и моей? Мысль о том, что Иисус был рожден под осуждением закона, шокирует вас, потому что Он не совершил ни единого греха в своей жизни. Но вы признаете, что на кресте Он был под осуждением закона. Как! Разве Он совершил грех? Отнюдь нет. Тогда, если Иисус мог быть под осуждением закона в какой-то момент своей жизни и быть безгрешным, то я не вижу никаких причин для того, чтобы Он не был под осуждением закона в какой-то другой момент своей жизни и по-прежнему оставался безгрешным, а Павел заявляет, что «не знавшего греха Он сделал для нас жертвоюзагрех».
Я просто привожу библейские факты; я не пытаюсь объяснить их. «И беспрекословно – великая благочестия тайна». Я не могу понять, как Бог мог явиться во плоти, в подобии греховной плоти. Я не знаю, как чистый и святой Спаситель смог вынести все человеческие немощи, которые являются результатом греха, и при этом считаться грешником и умереть смертью грешника. Я просто принимаю заявление Писания о том, что только таким путем Он мог стать Спасителем человечества; и я радуюсь этому познанию, потому что с тех пор, как Он стал жертвой за грех, я могу стать праведным в Нем пред Богом.
Какое чудо! Христу принадлежала вся слава небес; мы же не имели ничего; а Он «уничижил Себя Самого», стал ничем ради того, чтобы мы могли быть прославлены вместе с Ним и могли стать наследниками всего. Христос был безгрешен, само воплощение святости; мы же были презренными и исполненными греха, не имели ничего доброго в себе; [63] Он стал для нас жертвою за грех, чтобы мы могли стать сопричастниками Его праведности. Христос был бессмертен, Он обладал жизнью в самом себе, мы же были смертными, обреченными на вечную смерть; Он претерпел смерть вместо нас для того, чтобы мы могли разделить с Ним бессмертие. Он опустился на самую глубину, туда, куда упал человек, ради того, чтобы поднять его до высоты своего превознесенного престола; и при этом Он никогда не переставал быть Богом и никогда не терял ни единой частички Своей святости.
5. И снова; почему Иисус принял водное крещение? Он сказал, что Ему надлежало «исполнить всякую правду». Мы не можем сказать, что он совершил это просто как пример; ибо, таким образом, мы бы действительно отвергли заместительную природу искупления. Он, должно быть, принял крещение по той же самой причине, по которой Он умер, а именно из-за греха. Не Его греха, а нашего; ибо, как в момент смерти, так и во время Его жизни, от самого рождения Он был под осуждением закона. Это было не ради Него, а ради нас.
Я думаю, что я ясно показал на основании многих Библейских доказательств, что Христос был рожден под осуждением закона, и что это было необходимой чертой, учитывая тот факт, что он родился от женщины; «человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями», эти слова буквально верны в отношении Христа. Он во всем был подобен свои братьям, в его жизни были искушения и страдания, и даже долгота его земной жизни соответствовала средней продолжительности жизни человека.
6. Я должен привести еще один аргумент, и я оттолкнусь от вашей точки зрения. На мгновение я предположу, что неверное – верно, что выражение «под законом» означает «подчиненный закону», и что здесь имеется в виду церемониальный закон. Теперь, возьмем текст о том, что Христос «родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных». Он не спасает никого, кто не находится в том же состоянии, что и Он. А поскольку только евреи были подчинены церемониальному закону, то согласно вашей теории Он пришел спасти только евреев. Я рад, что столь узкое толкование не обязывает нас ограничить план спасения. Христос умер за всех людей; все люди были под осуждением Божьего закона; и поэтому Он должен был стать под его осуждение. По благодати Божьей он вкусил смерть за всех людей. [64]
7. Но это требует, чтобы я указал еще на одно логическое противоречие, на котором зиждется ваша теория. Церемонии ритуального закона Моисея были всего лишь евангельскими постановлениями того времени. Соблюдая их, люди проявляли свою веру в евангелие Христа. Но ваша теория говорит о том, что Христос умер, чтобы евреи могли прекратить приносить в жертву ягнят и т.д., т.е. Он умер для того, чтобы они были свободны от евангелия. Если бы это было верно, то в каком бы положении они тогда оказались? И снова согласно вашей теории Христос умер, чтобы искупить людей от того, что не имело в себе силы осуждать. Вкратце, она аннулирует весь план спасения и превращает его в бессмыслицу. Итак, уже было основательно доказано, что Гал. 4:4, 5 никак не могут указывать на то, что называют церемониальным законом. В действительности эти тексты указывают на нравственный закон, который осуждает всех людей, но Христос искупает от этого осуждения всех тех, кто верует в Него и делает их сынами и наследниками Божьими.
Вы утверждаете, что эти «вещественные начала» указывают на церемониальный закон, говоря: «Что касается вещественных начал мира – этих «немощных и бедных вещественных начал», к которым они желают возвратиться и которыми они были порабощены», то было бы совершенно нелогично применить их к закону, который «духовен», «свят, праведен и добр» (стр. 60).
Так оно и есть. Те вещественные начала мира, те немощные и бедные начала, должны быть абсолютной противоположностью чистому и святому закону Бога; а противоположностью святому, праведному и доброму закону является грех. А грех, как я уже показал, является вещественным началом мира. Это то, что мирские люди делают по своей природе. Это то, что исходит из сердца человека (Мк. 7:21-23), и, следовательно, является первым, вещественным началом, их поступков.
Я удивляюсь как вы, читая Гал. 4:3 и тексты 8-10, говорите, что в них речь идет о церемониальном законе. Те вещественные начала, в рабстве которых они находились, и к которым они желали вернуться, были теми же вещественными началами, которые они практиковали, когда не знали Бога, и они служили тому, что по существу не было богом. Вы сами говорите: «Язык этого отрывка ясно показывает, что люди, упомянутые в нем, [65] в прошлом поклонялись другим богам». Тогда, почему бы вам не признать открыто, что эти вещественные начала, в рабстве которых они находились, были греховными обычаями безнравственных идолопоклонников?
Теперь я перехожу к вашему коронному аргументу, я привожу цитату со стр. 65: «Отождествление этих вещественных начал мира, этих немощных и бедных вещественных начал, в рабство которым галаты желали возвратиться, с церемониальным законом является важным звеном в этом доказательстве. Без сомненья можно сказать, что наша позиция в этом вопросе верна. Д-р Счафф в своем комментарии касательно этих «начал» говорит: «По моему мнению, это выражение в любом случае относится только к Иудаизму, особенно к закону (апостол Павел никак не мог в одной мысли охватить как язычество, так и иудаизм, он не мог считать их практически равнозначными)». Мы надеемся, что наши друзья, которые иногда пытаются частично соотнести эти вещественные начала (стихии) с язычеством, пересмотрят свою точку зрения».
«Д-р Кларк пишет «о вещественных началах мира», «началах и принципах еврейской религии». Он также пишет, что «немощные и бедные вещественные начала были церемониями закона Моисеева». Д-р Скотт занимает такую же точку зрения».
Если бы этот вопрос не был настолько серьезным, то аргументы, которые вы приводите в попытке отождествить вещественные начала мира с церемониальным законом, могли бы показаться забавными. Вы называете этот пункт очень важным звеном в вашей теории, от которой зависит её устойчивость, и читатель ожидает, что приведете множество доказательств из Писаний; и вы бы их привели, если бы они были в Писании, однако там их нет; но вместо этого вы приводите мнения д-ра Счаффа, д-ра Кларка и д-ра Скотта, трех, без сомнения, очень хороших людей, однако эти три человека несут на себе ответственность за многочисленные доктринальные ошибки и ложную теологию. Процитировав мнение д-ра Счаффа о том, что эти немощные и бедные вещественные начала относятся только к иудаизму, вы говорите: «Мы надеемся, что наши друзья, которые иногда пытаются частично соотнести эти вещественные начала (стихии) с язычеством, пересмотрят свою точку зрения». Неужели Адвентисты седьмого дня дошли до того, чтобы в любой дискуссии принимать мнение обычного д-ра теологии как окончательное? Разве д-р Счафф является столь безупречным и авторитетным источником, что когда он говорит, тогда все остальные уста должны умолкнуть? Позвольте мне построить аргумент, по примеру д-ра Счаффа. Он говорит: «Христианская церковь соблюдает первый день недели, [66] который торжественно отмечает завершение духовного творения, точно так соблюдение последнего дня торжественно отмечает завершение физического творения. Мы имеем полнейшие правомочия на совершение такого изменения» ( Библейский комментарий, ст. Суббота).
И теперь, огласив это официальное заявление непогрешимого д-ра Счаффа, человек, соблюдающий воскресный день может сказать: «Мы надеемся, что наши друзья, которые все еще считают библейской субботой седьмой день, пересмотрят свою точку зрения». Вы бы посчитали такой аргумент достойным хотя бы мимолетного внимания? Разве вы скажете «Вне всякого сомнения, эта позиция верна», потому что так говорит д-р Счафф? Я знаю, что вы так не скажете; тем не менее, если вы действительно считаете, что ваш аргумент относительно Гал. 4:8 обладает хоть какой-то ценностью, то вы будете обязаны принять его.
Я хочу обратить ваше особое внимание на представленный вами довод для того, чтобы показать слабость вашей точки зрения. Вы говорите, что «вещественные начала мира» идентичны церемониальному закону. Далее вы добавляете: «Без сомненья можно сказать, что наша позиция в этом вопросе верна». Если у человека нет никаких сомнений в отношение какого-то пункта вероучения, то это только потому, что данный пункт настолько хорошо подкреплен самыми ясными доказательствами, что не вызывает никаких возражений. А какие доказательства приводите вы? Это всего-навсего слова д-ра Счаффа, д-ра Барнса и д-ра Скотта. Тогда неизбежно напрашивается вывод о том, что вы считаете заявления этих мужей достаточными для учреждения любого пункта вероучения. Я ни на йоту не считаю их заявления достаточными для учреждения какого-нибудь пункта вероучения. Более того, я вообще не считаю мнение любого из людей достаточно весомым для того, чтобы учреждать какой-то пункт вероучения. Только слово Божье может решать, что есть верно, только оно может учреждать доктрины; и когда Библия сказала свое слово, тогда слова любого из людей уже никак не могут сделать её доказательства более прочными. И если какое-то утверждение не может быть доказано на основании Библии, то оно никак не может быть доказано на основании мнений человека, каким бы хорошим он ни был.
Все люди понимают это; всем людям известно, что слово Божье превыше всякого слова человеческого; и поэтому, всякий раз, когда они ищут подтверждение чему-то, они всегда обращаются к Библии, а не к человеку. Я искренне надеюсь, [67] что живя в это последнее время, мы не станем придерживаться традиции ссылаться на мнения докторов теологии для того, чтобы подкрепить теории. Когда наши друзья, соблюдающие воскресенье цитируют мнения комментаторов относительно мнимого изменения субботы, тогда мы все говорим, что они не имеют библейского обоснования. Если я ошибаюсь, приходя к такому же выводу относительно вашей цитаты, в которой вы отождествляете церемониальный закон с вещественными началами мира, то я полагаю, вы простите меня и покажете мои заблуждения, приведя доказательства из Писаний.
Если вы желаете знать мнение человека по этому вопросу, то я процитирую вам одно из них. Это мнение человека, который как библейский комментатор стоит настолько выше д-ра Счаффа, насколько д-р Счафф, как знаток греческого и латыни, стоит выше меня. Я привожу цитату пресвитера Д. Н. Эндрюса из его работы под названием «История субботы», где в примечании на стр. 186 мы находим следующее высказывание, относящееся к Гал. 4:10:
«Очень часто Гал. 4:10 приводится с той целью, чтобы показать, будто Павел считал соблюдение субботы чем-то опасным; и при всем этом, те же самые лица утверждают, что 14 глава послания к Римлянам доказывает, что этот вопрос совершенно незначительный и какой день соблюдает человек – совсем неважно.Но если мы прочитаем это текст в связи со стихами 8-11, то мы увидим, что до своего обращения жители Галатии были не евреями, а язычниками; и что те дни, месяцы, времена и годы не имели никакой связи с законом левитов, а были связаны с теми датами, к которым они, будучи язычниками, относились с суеверным трепетом. Обратите внимание на то, как Павел делает ударение на слове «опять» в 9-ом тексте».
Не удержусь и скажу, что я надеюсь, что наши друзья, которые иногда пытаются отождествить эти «вещественные начала» с церемониальным законом, «пересмотрят свою точку зрения».
Я также добавлю следующие слова пресвитера Эндрюса: «Рабство еврейской церкви заключалось не в том, что Бог дал им Свой закон, а в том, что они были его преступниками – слугами греха (Ин. 8:33, 36). Свобода детей «вышнего Иерусалима» состоит не в том, что закон был упразднен, но в том, что они сделались свободными от греха (Рим. 6:22)» (Ревью энд Геральд, том 2, № 4).
Мне не следует делать это письмо чрезмерно пространным, поэтому я перехожу к краткому комментарию относительно вашей строгой критики в адрес моего аргумента к Гал. 4:21. Вы говорите: [68] «Здесь мы снова встречаем выражение «под законом». Мы уже уделили некоторое время размышлению над этой фразой и заявили, что в послании к галатам она используется в значении «подчиненный закону», «находящийся под его властью». Но один из наших друзей, который преданно и с большим энтузиазмом рассматривает закон в послании к Галатам как нравственный закон, и заходит настолько далеко, что начинает утверждать, будто каждыйслучай употребления этого выражения указывает на состояние греха или осуждения; т.е. на то состояние, когда наказание закона висит над головой человека. То наказание является «второй смертью» в «озере огненном». Тогда, согласно такой точке зрения, получается, что братья в Галатии, желая находиться в состоянии осуждения, подвергали себя опасности оказаться в озере огненном. А фраза «скажите мне вы, желающие быть под законом», с учетом замены выражения наэквивалентное ему, будет звучать «скажите мне вы, желающие быть под осуждением закона» или «скажите мне вы, желающие быть под проклятием второй смерти». Мы слышали о людях, имевших множество странных желаний, но мы никогда не слышали, чтобы кто-то желал себе второй смерти. Но, если этот взгляд на предмет обсуждения верен, и этот закон является нравственным законом, и все выражения «под законом» означают «под осуждением закона», тогда мы никак не можем уклониться от такого вывода. Уж слишком нелепо хотя бы на секунду представить себе, что эти ревностные новообращенные христиане желали находиться под осуждением и подвергнуть себя такой страшной гибели».
Я с радостью признаю, что я один из ваших друзей, которые заявляют о том, что в каждом случае употребления выражения «под законом» в оригинале оно означает «находится в состоянии греха или осуждения, т.е. в таком положении, когда наказание закона висит над головой человека». Я верю, что никогда не попаду в список ваших врагов за то, что говорю вам эту истину. Вы подшучиваете над этой мыслью, говоря, что вы никогда не слышали о человеке, желающем второй смерти. Мои познания не очень обширны, но мне такой случай известен. В 8 главе книги Притчей олицетворенная мудрость, которая является страхом Божьим, в последнем стихе этой главы говорит: «Все ненавидящие меня любят смерть». Здесь мы имеем ясное библейское высказывание о том, что существует некоторая группа людей, которые любят смерть. Нам не следует полагать, что эти люди умышленно желают смерти, но они умышленно избирают и любят тот путь, который ведет их к смерти, и, следовательно, о них сказано, что они любят смерть. В книге Деяния 13:46 мы читаем о том, как Павел и Варнава сказали евреям, которые «противореча и злословя» отвергли слово Божье: «но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаемся к язычникам». [69] Здесь мы находим похожее высказывание. Апостол не имел в виду, что тщеславные евреи считали, будто язычники не могут войти на небо; наоборот, евреи считали, что они были единственными, кто был достоин такой привилегии. Однако они не желали принять единственную истину, которая могла сделать их пригодными для жизни вечной. Итак, Павел мог сказать галатам, которые отворачивались от евангелия Христа, что они желали быть под законом. И дело не в том, что они умышленно избрали смерть, а в том, что они искали получить оправдание через что-то, что было не в состоянии предоставить им оправдания. Они теряли свою веру во Христа и отходили от Бога (Гал. 1:5); если бы они продолжали идти тем же путем, то он неизбежно бы привел их под осуждение закона. Я не вижу ничего нелепого в этой точке зрения. Если она абсурдна, тогда вам также следует назвать абсурдными и слова Соломона в Прит. 8:36.
Позвольте мне доказать свою точку зрения иным путем. Вы согласитесь с тем, что если человек ходит своим собственным путем, то его конец – смерть. Соломон говорит: «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец их – путь к смерти». И этот путь, который кажется человеку верным, является его собственным путем. Теперь, поскольку путь человеческий является путем смерти, то мы с уверенностью можем сказать, что все те люди, которые любят идти своими путями, любят смерть. Галаты свернули на свой собственный путь, который противоположен пути Божьему. И таким образом они желали быть под осуждением закона.
Мое письмо уже длиннее, чем я этого ожидал. Это потому что я остро ощущаю огромную важность этого вопроса, и я уверен, что ваша теория противоречит истине. Сторонники этой теории часто приходили в смущение от заявлений противников истины, и это происходило скорее по причине того, что эти противники были слепы, а не потому, что они обладали сильными аргументами, к которым они прибегали, чтобы противостать этой теории. Я написал эту критическую статью, подобно тому, как я писал статьи для «Знамений», с единственным желанием – защитить закон Божий и показать его вечность, неизменность, обязательность его требований по отношению ко всему человечеству и чудесную гармонию между Божьим законом и евангелием. [70] Закон Божий – это основание всей нашей веры. Можно сказать, что он является сутью трехангельской вести. В этом случае мы должны ожидать, что по мере того, как мы приближаемся к концу, все силы врага будут сосредоточены на нем. Нам нужно будет служить закону более доблестно, чем ранее. Каждый пункт наших доказательств будет подвергнут испытанию самой жесткой критики и нам придется защищать каждый пункт. Если в наших доводах найдется хотя бы какая-нибудь непоследовательность, то будьте уверенны, враги истины увидят ее.
Я знаю, вы можете сказать, что изменение своего мнения перед лицом врага по столь важному пункту как этот, будет унизительно. Но если генерал занял неверную позицию, то я считаю, что было бы лучше исправить ее, даже пред лицом врага, чем подвергнуть себя риску поражения по причине неверно занятой позиции. Я не вижу ничего унизительного в этом. Если нашему народу сегодня следует, как телу, (а это когда-нибудь произойдет) изменить свое отношение к этому вопросу, то это будет всего лишь признанием того, что сегодня они стали лучше проинформированы, нежели они были вчера. Это будет всего лишь шагом вперед, а шаг вперед не может быть унизительным, кроме как для тех, чье гордое самомнение не позволит им признать, что они могут ошибаться. Это просто станет шагом вперед, к вере великих реформаторов от времен Павла до дней Лютера и Уэсли. Это будет шагом к сердцу трехангельской вести. Я не считаю, что мнение, которого я придерживаюсь, является чем-то совершенно новым. Оно не является новой доктринальной теорией. Все, что я преподал, находится в совершенной гармонии с фундаментальными принципами истины, на которую опирается не только наш народ, но и все знаменитые реформаторы. Поэтому я не требую для себя никакой похвалы за ее распространение. Я утверждаю лишь только то, что эта теория последовательна, потому что она не отступает от фундаментальных принципов евангелия.
Прежде чем я закончу, я не могу не выразить свое огорчение от увиденного в вашей книге (стр. 78) выражения: «хваленная доктрина оправдания по вере». Знаете ли вы о каких-либо других средствах оправдания? Ваши слова, похоже, подразумевают, что вы считаете ценность этой доктрины преувеличенной. [71] В одном я уверен – те, кто настаивают на теории закона, которую вы пытаетесь поддерживать, не слишком высоко оценивают важность доктрины об оправдании по вере; потому что эта теория неизбежно приводит нас к выводу, что человек оправдывается законом. Но когда я читаю Рим. 3:28, а также о том, что в Коринфе Павел не знал ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого, и что «праведный верою жив будет» (Фил. 3:9), я прихожу к выводу, что переоценить доктрину об оправдании по вере невозможно. Если вы пожелаете, то можете называть её «хваленной»; я принимаю слово и говорю вместе с апостолом Павлом: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира».
Надеюсь, что вы прочитаете это письмо в том же духе, в котором оно было написано. Поверьте, я писал его, будучи движим самыми добрыми чувствами и братской любовью к вам лично, а также с молитвой о том, чтобы Бог вел нас обоих и весь Его народ к совершенному познанию истины такой, какой она есть в Иисусе.
Остаюсь вашим братом во Христе, Э. Д. Ваггонер.