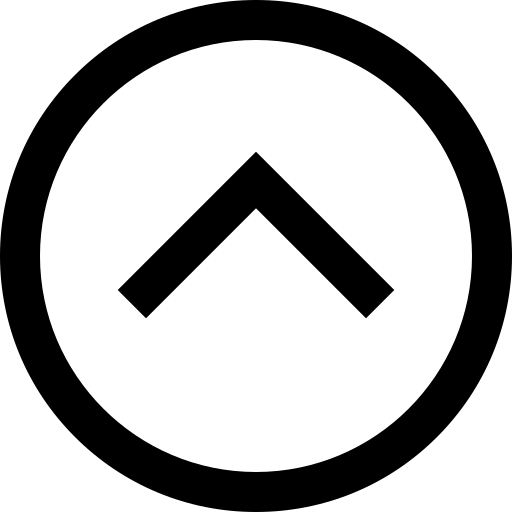Вечная суббота
Алонзо Джоунс
(обзор сочинения, выигравшего приз в 500 долларов)
Глава 1
Учреждение субботы
Почтенный Ричард Флетчер из Бостона, штат Массачусетс, в своём завещании назначил доверенный комитет из колледжа Дартмоут, вместе с фондом, из которого данный комитет должен раз в два года вручать приз размером в 500 долларов за сочинение, наилучшим образом применимое для противодействия многообразному, постоянному и мощному влиянию, влекущему христиан к фатальному соединению с миром как в духовной сфере, так и в повседневной жизни. Пятое по счёту вручение данной премии выпало на 1883-й год. Следовательно, представители этого фонда и колледжа Дартмоут огласили тему написания сочинения - «Вечное обязательство дня Господня», и огласили сумму приза – пятьсот долларов. Комитет, избиравший призёра, состоял из ниже перечисленных джентльменов: Профессор Уильям Томпсон, имевший две докторские степени, профессор Ливлин Прэтт, имевший две докторские степени, и почтенный Джордж М. Стоун, имевший две докторские степени. Все они были из города Хартфорд, штат Коннектикут. Данный комитет, после тщательной и прилежной работы, наградил призом сочинение, которое было написано почтенным Джорджем Элиотом, из Западного Союза, штата Айова. Данное сочинение, названное «Вечная суббота», появилось в 1884-м году, и было издано в издательском обществе «Американ тракт» зимой 1884-1885-го годов в форме книги объёмом в двести восемьдесят страниц.
Нет нужды доказывать тот факт, что вопрос воскресенья становится главным вопросом наших дней. Огромные конференции служителей посвящены одной только цели – обеспечения принудительного соблюдения этого дня светской властью. Соответствующие объединения действуют по всем Соединённым Штатам; конвенции по запрету добиваются своей законной силы; юридические объединения, как государственные, так и местные, от начала до конца своих съездов посвящают себя работе по написанию законов с этой целью; религиозные статьи по всей стране поддерживают один-единственный голос – голос в пользу защиты этого дня; политические объединения трудятся вместе с законодателями в интересах воскресенья; «Рыцари труда», и другие союзы трудящихся вместе с социалистами возвышают свой голос в пользу принудительного соблюдения этого дня; колледжи и религиозно-общественные структуры предлагают внушительные гонорары за сочинения в поддержку этого дня. Все эти явления важны и достойны внимания. Среди них сочинение «Вечная суббота» - одна из последних и самых влиятельных дискуссий по вопросу о том, почему же соблюдать необходимо именно воскресенье. В этой связи мы и обращаем внимание читателя на данный обзор главных аргументов этой работы.
Данная книга разделена на три части под названием «Суббота и природа», «Суббота и закон», и «Суббота и искупление». Мы будем много цитировать из первых двух частей, не оспаривая их нисколько, потому что автор «Вечной субботы» в данных двух частях совершенно прав относительно вечной природы седьмого дня как субботы Господней, а мы как раз в это и верим. Мы просим наших читателей внимательно рассмотреть аргументы в главах «Суббота и природа», и «Суббота и закон», которые мы цитируем по двум причинам. Во-первых, эти аргументы превосходны, а во-вторых, мы просим вас лично убедиться в том, насколько тщетны и бессмысленны логические выводы о том, что после такой богатой и подробной демонстрации вечной природы седьмого дня вдруг, откуда ни возьмись, появляется обязательство соблюдать какой-то другой день. Автор выражается предельно ясно: Суббота – это такое же древнее явление, что и сотворение мира… Она вместе с институтом брака является одним из двух наследий потерянного рая, несущим нам благоухание ещё не согрешившего человечества. Институты брака и семьи формирует само государство, а институт субботы является фундаментом поклонения Богу и института церкви. Эти две чистые благоухающие розы человек вынес из благословенного светлого Едема.
Однако, не только факт древнего происхождения наделяет эти институты святостью, ведь одни только многочисленные годы не наделяют святостью или важностью то, что не имеет в себе собственной печати освящения и божественного благословения. Именно в обстоятельствах появления субботы, и в её особенной природе мы надеемся обнаружить актуальность и святость седьмого дня.
«И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал» (Бытие 2:3). Таково предельно простое утверждение, формирующее последний аккорд того величественного гимна о сотворении мира, который является нашим единственным проблеском о начале всего, что начало быть. В этом предложении достаточно здравого смысла и ясного содержания, чтобы увидеть в нём гораздо более, чем просто предвкушение теократической субботы, данной Израилю. Абсурдно было бы подразумевать в этих текстах то, что некоторые, по всей видимости, подразумевают, толкуя этот текст следующим образом: «Бог покоился в седьмой день; поэтому спустя 2500 лет Он благословил и освятил этот день». В описании седьмого дня используется тот же язык, который применяется в описании шести предыдущих дней.
Ясно то, что при первом же чтении этого отрывка мы натыкаемся на мысль о том, что освящение субботы как дня покоя имело место в самом конце недели творения. Этого никто бы и не отрицал, если бы само это отрицание не служило поддержкой определённым взглядам. Сомнения в этом ясном объяснении поддерживается недавним открытием о дне покоя в ассирийском перечислении дней, которое считается предшествующим Моисею почти на шестьсот лет, а также в дальнейших открытиях о реальном соблюдении субботы в Вавилоне задолго до рождения Моисея. Разве не Бог сохранил эти артефакты в египетских гробницах, на ассирийских табличках и в других исторических документах в разных местах, чтобы во время каждой атаки на истину, когда даже уста самих верующих закрываются под натиском сомнений и нападок, эти «камни» сами могли «возопиять», свидетельствуя вместо нас?
Особую власть и авторитет имеют самые первые откровения. Какими бы критическими ни были замечания о ранней истории мира, для христианина свидетельство Иисуса Христа о принципах Едема обладает высочайшим авторитетом и властью. Обличая деградацию в супружеских отношениях, которая имела место во времена закона Моисеева, Иисус ссылается на первоначальный принцип: «С начала не было так». Другими словами, закон, данный в начале, превыше всего. Все заповеди, данные человеку в то время, были даны на все времена. Уже тогда институт брака и близкий ему институт субботы обрели вечный характер и власть, которые превосходят еврейские постановления по своей всеобщей и обязательной для всех природе. Эти институты истины, которые были даны на самой заре истории человечества, подарены всему человечеству, а не одним только евреям; они и являются азбукой всякого растущего человеческого развития, и не должны забываться по мере взросления мира, а наоборот, сопровождать его во всех его путях, во всех его переменах, и быть его руководством на всех крутых подъёмах в его восхождении к высотам своего благородного предназначения.
Не к одному только народу, но к человеку в целом; не только к человеку, но и ко всякому творению; не только ко всему сотворенному, но и к самому Творцу относится благословение первой субботы. Её значимость простирается далеко за пределы узких рамок иудаизма, на все народы, возможно даже на все миры. Этот закон провозглашён не только устами законодателя избранного народа, но объявлен в присутствии только что сотворённой земли и неба. Эта декларация из книги Бытие лучше всего комментируется высказыванием Иисуса: «Суббота была создана для человека». Для человека, а значит, для всего человечества, она была дана вместе со всеми своими благословениями.
Причина учреждения субботы представляет собой чрезвычайный интерес и важность для всех людей. Тема сотворения мира представляет важность не для одного только Израиля, а поклонение Творцу обязательно не только для детей Авраама. Главной составляющей всякой религиозной концепции, и основанием всякой истинной религии является вера в единого Бога как в Творца всего. Таким образом, суббота является вечным свидетелем против атеизма, отрицающего существование Бога как личности, против материализма, отвергающего невидимые причины появления видимой вселенной, и против секулярного мышления, не признающего нужду в поклонении. Она символическим способом празднует величие той творческой силы, которая одним только словом вызвала к существованию всё живое, величие мудрости, придавшей всему творению порядок, взаимодействие, красоту и гармонию, и величие той любви, которая сотворила и объявила всё «весьма хорошим». Она поставлена постоянным хранителем человека от той духовной немощи, которая всегда вела его к отвержению сотворившего нас Бога, и к низведению этого Бога до уровня Своих творений, дел рук Его.
Далее он говорит: Доколе эта причина остаётся актуальной, данный закон остаётся в силе. Причину субботы нужно искать в самом творении. Бог сам поставил этот памятник в истории человечества, напоминающий о причинах появления жизни. И пока истина о творении и познании Творца имеет какую-то ценность для человеческой мысли, имеет какой-то авторитет для человеческого сознания, и имеет какую-то силу взывать к человеческим чувствам, институт и закон субботы будет выполнять свою постоянную наставляющую роль, имея вечную актуальность и обязательность.
Бог «покоился в день седьмой от всех дел Своих, которые Он творил». Это утверждение, звучавшее ещё в самом начале, вошло в декалог, и повторилось в послании к Евреям. На первый взгляд его не так легко понять – «Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает?» (Исаия 40:28). Если Он никогда не устаёт, то как же можно говорить о том, что Он «покоился»? Бог есть Дух, и единственный покой, который Ему присущ – это глубокое чувство удовлетворения и любования завершённым трудом, которое только Дух может испытать – когда Его намерения полностью исполнены, и исполнены в абсолютном совершенстве. Так же как и во время торжественных пауз между днями творения Он называл свою работу «хорошей весьма», так Он радовался о ней и после её окончания, покоясь в совершенном одобрении исполненного плана; не для того, чтобы восстановить утраченную энергию, как это делают люди, а для того, чтобы отметить появление человека как венца и пика всех творческих идей, воплощённых в совершенстве. Такой покой свойственен исключительно духовной природе – покой от совершенно выполненного шедевра творческого порыва.
Пример самого Божества открывает нам ещё более глубокий смысл и непреложность субботы. Предположим, кто-то спросит: «Как нам знать, что некое предписание является нравственным по своей природе и основанным на подлинном авторитете, а не просто придумано в угоду чьим-то меркантильным интересам?» Разве можно представить себе лучший ответ на этот вопрос, чем констатация факта, что данное нравственное повеление имеет основание для своего существования в природе и характере самого Бога? Наше высочайшее уважение к нравственному закону коренится в отношении к нему как к описанию природы самого Бога… Нет более сильной защиты и оправдания величию нравственного закона, чем декларация его как принципа поведения самого Бога, когда посредством Своей бесконечной воли, управляющей всей вселенной как в физическом, так и в нравственном смысле, Он исполняет эти же принципы и в своей собственной жизни. Тот закон, которому сам Творец подчиняет Свою личность, должен быть абсолютно обязательным для каждого творения, созданного по Его образу. И таким законом является закон о субботе. «Бог покоился в седьмой день», и таким образом придал закону о субботе высочайший и сильнейший авторитет, с которым считается само Божество. Доходчивым образом Всемогущий настолько совершенно и с такой неизменной властью объявил не просто Свою волю в этом ясном установлении, но и важный моральный дух этой заповеди, показывая Свою собственную подчинённость этому принципу, который Он дал Своим творениям… Это обязательство адресовано не только и не столько к физической сфере человека, сколько к человеку как к духовному существу, созданному по образу Бога; поэтому оно касается не только его физических вопросов и естественных вещей, сколько его духовно- нравственного восприятия и совести, будучи праведным и разумным обязательством. Поэтому суббота не ограничена ни рамками времени, ни рамками места и обстоятельств, поскольку облечена вселенской и вечной властью.
Затем автор оканчивает 1-ю главу своей книги следующим предельно простым и правильным выводом:
«Поэтому суббота, как мы видим, дана в самом начале, и дана всем людям, имея верительную печать примера самого Бога, чтобы быть выражением вечного слова, чтобы быть свидетелем самых важных истин, открытых когда-либо человеку, чтобы быть благословением для здоровья человека, чтобы указать ему на его долг в поклонении Богу. Все эти откровения, явленные в освящении субботы во время её первоначального сотворения, указывают нам на то, что мы обязаны видеть в ней нравственный смысл, и признать её актуальность для всех народов и поколений в неизменной и вечной обязанности должного её соблюдения».
Мы процитировали больше половины всей первой главы, и добавить нам нечего. Мы искренне благодарим мистера Элиота за такую вдохновенную демонстрацию вечной и повсеместной обязанности соблюдать седьмой день как субботу Господню. Мы снова призываем читателя прилежно изучить эти строки, ибо они подробным образом раскрывают вечные принципы, которые никакая человеческая подделка не может пошатнуть.
Глава 2
Суббота и закон
В качестве основания для дальнейшего рассмотрения темы «Вечная суббота», мы приведём несколько выдержек автора о четвёртой заповеди, показывая вселенское и вечное обязательство соблюдать седьмой день как субботу Господню. Он говорит:
«Провозглашение закона на Синае – самая знаменательная точка в истории Израиля. Эту точку можно назвать началом его гражданского и религиозного становления. Начиная с того момента Израиль стал народом Иеговы, народом Его закона, избранным из всех народов земли в своих поисках истинной праведности. Поэтому тот факт, что суббота является частью этого закона, имеет значение не для одних только евреев, а для всего человечества.
Повсюду в древнееврейских священных писаниях мы встречаем упоминание о них как о народе, особым образом водимом Божьим провидением. Историки, псалмопевцы и пророки неустанно перечисляют чудесные вмешательства Иеговы в пользу Своего избранного народа. И эта же мысль является ключевой нотой в декалоге и преамбулой к закону: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства» (Исход 20:2). Поэтому когда суббота упоминается в десятисловии, при всей её важности как памятника творения, о чём особым образом сказано, она помимо этого представлена знаком божественного провидения и заботы, которую Израиль больше всех народов испытал на себе . Суббота декалога – это суббота Божьего провидения .
Провозглашение закона на Синае – это, пожалуй, самое сильное из всех доказательств в пользу субботы, которое представляет собой ясную заповедь самого Бога, данную в самых торжественных обстоятельствах, и которое показало субботу частью нравственного закона, против которого «душа, согрешившая, да умрёт» (Иезекииль 18:4). Бог сказал, и Его творению остаётся только два выбора: быть послушными, либо умереть.
Мы обычно называем декалог «десятью заповедями». Более точным переводом с древнееврейского был бы термин «десять слов» (Исход 34:28; Второзаконие 4:13; 10:2,4), точным эквивалентом которого является используемое нами греческое слово «декалог». Следовательно, данные заповеди представляют собой не просто некие указания или замечания Бога, ибо Бог может говорить и то, что имеет временное и местное значение; они в самом явном смысле являются словом Божьим, важной частью того «слова, которое пребывает вечно». В декалоге мы имеем проблеск того внутреннего мотива божественной воли, который пропитывает все его временные повеления. И дело не в том, что такое использование языка строго ограничено только этим текстом, а в том, что использованием термина «десятисловие», как и в общем русле постановлений древних евреев, нравственный закон полностью отделён от гражданских и церемониальных постановлений. Первый является вечным откровением божественной воли; вторые же содержат преходящие повеления, ограниченные местом и временем своего применения. Декалог также назван «свидетельством» (Исход 25:16, и многие другие места), то есть, свидетелем божественной воли, а также он назван термином «завет» (34:18), или «Его завет» (завет Иеговы – Второзаконие 4:13), от послушания которому особым образом зависело Божье благоволение. Имена и названия, данные этому своду заповедей, доказывают его неизменную нравственную власть и природу.
То, каким образом этот закон был провозглашён, тоже свидетельствует о его особой святости и высокой важности. Перед его оглашением народ Израильский освятил себя посредством торжественных обрядов, в то время как святая гора была отделена смертной чертой, за которую ни один смертный не мог зайти и при этом остаться в живых. И когда пришёл назначенный день, под величественный аккомпанемент сверкающих молний и грозовых раскатов, под громкий звук ангельских труб, на дымящейся горе, сотрясая всю землю, из уст самого Иеговы прозвучали «громким голосом» потрясающие до глубины души изречения этого божественного закона, к которому «Он не добавил больше ничего» (Второзаконие 5:22).
Эти слова, выражающие высший принцип нравственности, прозвучали не из уст ангела или пророка, а сотрясли воздух силой самого Вечносущего. И когда их нужно было записать, ни одному человеку не было доверено записать эти священные изречения. Они были высечены даже не рукой ангела; Бог своей собственной рукой написал их на каменных скрижалях, и даже приготовление этих камней в первом случае было «делом Божьим», чтобы они стали выражать Его волю (Исход 31 : 18; 32 : 16; 34 : 1, 4, 28 ) .
Закон, объявленный Его же собственными устами и начертанный Его собственным перстом, был наконец помещён в ковчег завета, под престолом милости, где кровь кропления совершала искупление за его нарушение… и под пламенное явление самого присутствия Всемогущего, под славу шекины данные обстоятельства навеки засвидетельствовали божественное происхождение этого закона и божественную волю о его соблюдении. Эта неземная торжественность и величие провозглашения и хранения закона отличала десятисловие от всех остальных законов, данных человеку, и отделяло его от гражданских и церемониальных постановлений, которые позже были даны рукой Моисея. Последние не были записаны лично рукой Всемогущего, и не были объявлены народу лично божественным голосом; для них было достаточно того, что их услышал и записал Моисей.
Четвёртая заповедь является частью этого закона, провозглашённого при таких потрясающих обстоятельствах. Посреди облака славы, посреди этих же громов и молний, этим же величественным голосом были изречены в числе прочих данные слова: «Помни день субботний, чтобы святить его». Ввиду этих фактов невозможно отнести субботу к церемониальным постановлениям Израиля. Посредством священной печати божественных уст и перстов она была возвеличена высоко над этими обрядами, «близкими к погибели». Другими словами, суббота принадлежит к тому нравственному закону, который Павел называет «святым, праведным и добрым» (Римлянам 7:12), а не к тому ритуальному циклу обрядов, о котором Пётр говорит: «Его не могли понести ни отцы наши, ни мы» (Деяния 15:10).
Ничто в этих формулировках, выражающих четвёртую заповедь, не указывает на то, что заповедь о субботе является менее всеобъемлющей в своих вечных повелениях или в какой-то мере ограниченной по сравнению с остальными девятью заповедями, с которыми она неразрывно связана. Но иногда приходится слышать о том, что эта заповедь относится только к законам Моисея, и поэтому временна по своей природе, что она, в отличие от всех остальных, не имеет своего внутреннего смысла, взывающего к разуму, короче говоря, она, мол, является по своей сути не нравственной заповедью, а обычным механическим повелением…
Доказательство, свергающее эту заповедь с трона нравственных властелинов, должно быть достаточно веским… Существование различий между этой заповедью и остальными девятью заповедями декалога доказать невозможно. Запрет поклонения изображениям кажется неважным римской и греческой церквам; но, тем не менее, пытливый ум протестанта может увидеть, что эта заповедь жизненно важна для сохранения воистину духовного представления о Божестве. Таким же образом многие искренние и ревностные христиане не смогли распознать нравственную необходимость соблюдения субботы. Но более пристальный взгляд откроет, что все заповеди первой скрижали на самом деле стоят на основании четвёртой заповеди, как и все заповеди второй скрижали раскрываются десятой заповедью– «Не пожелай».
Моральный авторитет декалога берёт своё начало отнюдь не с провозглашения его на Синае. Его принципы были известны и исполнялись на протяжении всех патриархальных веков. Убийство было содеяно Каином, а непочтительность к родителям проявилась у Хама. Авраам, Исаак и Иаков имели познание единого Бога, а последний наставлял своих детей не поклоняться изображениям (Бытие 35:2). Воровство, ложь и прелюбодеяние осуждаются в исторических сведениях времён, предшествующих Моисею. И даже самая декларация вечного и неизменного нравственного закона уже свидетельствует о его вечной природе и актуальности, которая вовсе не начинается с провозглашения этого закона на Хориве, а датируется самым «началом всего», и по этой причине будет в силе до самого «окончания всего». Также следует отметить, что закон этот был дан не одному только Израилю. Язычники «показывают, что дело закона записано у них в сердцах» (Римлянам 2:14, 15). Иисус Христос также подтвердил непреложность закона в словах: «Если желаешь войти в жизнь, соблюди заповеди» (Евангелие от Матфея 19:17). Его великое обобщение всего закона в двух заповедях (любовь к Богу и ближнему) тоже является подтверждением его вечной этической силы. Иаков пишет: «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо Тот же, Кто сказал: не прелюбодействуй, сказал и: не убей; посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона» (Иакова 2:10,11). Тут невозможно поверить в то, что апостол не имеет ввиду весь декалог, и не приравнивает нарушителя четвёртой заповеди к преступнику всего закона». В словах такой важности он должен был обозначить исключение, если бы таковое имелось. Важно также отметить, что он основывает святость каждой заповеди на том факте, что каждая из них была изречена одним и тем же Богом. Но заповедь о субботе была точно также изречена голосом Иеговы, как и любая другая из девяти оставшихся заповедей. Если же эти «десять слов» с Синая актуальны и сегодня, вменяя такую же обязанность их соблюдения всему человечеству, которая засвидетельствована событиями Синая и словами Иисуса и Его апостолов, то и суббота разделяет эту нравственную природу, как в вопросе своей вечной актуальности, так и в вопросе обязательства соблюдать эту заповедь.
В законе, изречённом устами самого Бога и записанном Его собственным перстом, выражение Его воли и причины, связанные с институтом субботы таковы, что относятся не только к одному Израилю, но к человеку как таковому. Суббота напоминает нам о факте всемирной значимости – о сотворении мира, и основана на проявлении природы самого Бога, который удивительным и непостижимым образом «покоился в день седьмой». Поэтому идеи, связанные с субботой в четвёртой заповеди, полны самой незыблемой и вселенской значимости. Это установление, во свете обозначенных причин, настолько же широко, что и само творение, и настолько же вечно, как сам Творец.
Учреждённая при сотворении, по примеру Творца, суббота распространяется вместе с обязательством её соблюдения на всякое сотворённое существо. Просто немыслимо, чтобы какая-либо вдохновенная Богом теория предоставляла какое-либо более узкое объяснение этой заповеди. Если язык имеет хоть какое-то значение, то суббота четвёртой заповеди дана не только израильтянам, но и всем людям. И поскольку она восполняет всемирную нужду, то и дана она по всемирным причинам, имея в себе поддержку таких фактов, которые могут послужить началом только вечного установления – закон, который от начала…
Данные аргументы невозможно выдвигать со слишком большим пристрастием. Надолго должны замолчать уста заблуждающегося человека, прежде чем он осмелится человеческими измышлениями обесценить хотя бы одно единственное слово, нанесённое на вечных скрижалях рукой бесконечного Бога. Что же предлагается? – Сделать поправку в данном небесами своде Божьих принципов, удалить одну статью из записанной воли Вечносущего! Неужели вечная скрижаль Его закона подлежит поправкам от руки Его же творения? Тот, кто предлагает такое, должен запастись аргументами настолько же святыми, как сам Бог, и настолько же могущественными, как Его сила. Никакие руки, кроме освящённых не могли коснуться ковчега Божьего. Втройне освящёнными должны быть руки, которые осмелятся изменить свидетельство, лежащее внутри этого ковчега. Вечным авторитетом всего декалога, которым четвёртая заповедь неразделимо облечена, являясь воплощением Божьего неизменного нравственного закона, и самой формулировкой, применяемой в данной заповеди, суббота показана абсолютным, вселенским и неизменным обязательством».
Здесь было бы уместно вставить ту молитву, которую англиканская церковь предписывает в ответ на цитирование каждой из десяти заповедей: «Господи, помилуй нас, и наклони сердца наши к соблюдению этого закона».
Аминь! И мы ответим: «Аминь».
Глава 3
Логика, достойная пятисот долларов
Будем помнить, что книга под названием «Вечная суббота» была написана, чтобы доказать вечное обязательство соблюдать день Господень. Но под термином «день Господень» автор этого труда в каждом случае подразумевает первый день недели. Поэтому, в своём толковании книга «Вечная суббота» представляет аргументы в пользу вечного соблюдения первого дня недели. Нужно также помнить, что представители колледжа Дартмоут выплатили приз Флетчера размером в пятьсот долларов за сочинение, которое издано в виде книги «Вечная суббота». Это и является ощутимым доказательством того, что эти представители, вместе с комитетом данного фонда, назначившим их, сочли тему сочинения вполне раскрытой, и признали, что вечное соблюдение первого дня недели в нём было доказано. Но мы уверены в том, что любой, кто прочёл первые две главы этой книги, удивится тому, как ввиду используемых там аргументов автор мог заявить, что именно первый день недели является вечной субботой. Выражая в двух словах то, что мы будем подробно демонстрировать, автор противоречит каждому разумному аргументу, выдвинутому им самим, и каждому принципу, который он сам раскрыл.
В первой главе данной книги, как говорит Писание, Бог благословил седьмой день и освятил его, потому что в этот день Он покоился от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал (Бытие 2:3). Автор доказывает, что институт субботы создан при сотворении мира, и утверждает, что всякое установление, созданное Богом тогда, было дано человечеству на все времена.
Опять же, «Бог покоился в день седьмой», и таким образом придал закону о субботе высочайший и сильнейший авторитет, печать самого Божества… Поэтому суббота не ограничена никакими рамками времени, места, или обстоятельств, но имеет вечную и вселенскую значимость.
Именно в седьмой день Бог покоился от Своих дел творения; именно седьмой день Он благословил; именно седьмой день Он освятил; именно седьмой день Он назвал субботой. Но если, выражаясь словами мистера Элиотта, это установление было дано человеку на все времена, и этот факт получил высочайшее подтверждение примером самого Божества; и если этот день покоя не имеет лимитов во времени, и исключений в виде каких-либо обстоятельств, то как же «вечной субботой» можно называть первый день недели? Это просто невозможно. Эти два взгляда не могут быть верными одновременно. Бог не покоился в первый день недели. Он не благословлял, и не освящал первый день недели. Он никогда не называл первый день недели субботой, и никогда Своим собственным божественным примером даже не выделял этот день из всех остальных, не говоря уже о том, чтобы называть этот день самым выдающимся из всех даже для самого Божества. Исходя из всего вышесказанного, ни один принцип истины даже не намекает на то, что первый день недели является «вечной субботой».
Во второй части четвёртой заповеди, открывая нам субботу как часть Своего нравственного закона, Бог говорит, что субботу Он дал ещё и Израилю, когда вывел их из Египта. Первое из религиозных предписаний, данное освобождённому народу, совпало с первым из религиозных предписаний, данных человеку (стр. 110). Он говорит, что суббота имела значимость не для одних только евреев, а для всего человечества; что причина этой заповеди связана с творением мира; и поэтому идеи, связанные с субботой четвёртой заповеди, имеют вечную и вселенскую значимость; и что это установление, во свете указанных причин, настолько же широко, как само творение, и настолько же вечно, как и сам Творец (стр. 114, 126).
Тем не менее, читая эту заповедь, которая ясна как день, указывая на субботу как на день «Господа Бога твоего», мистер Элиот предлагает подразумевать первый день недели в качестве вечной субботы.
Перед тем, как перейти к его аргументам, объясняющим такой неожиданный шаг, мы повторим один из его же абзацев:
«Надолго должны замолчать уста заблуждающегося человека, прежде чем он осмелится человеческими измышлениями обесценить хотя бы одно единственное слово, нанесённое на вечных скрижалях рукой бесконечного Бога».
Что же предлагается? Предлагается кое- что стереть в небесном законе; устранить один пункт из ясно открытой воли Вечносущего! Вечную скрижаль Его закона предлагают исправить рукой Его же творения. Тот, кто осмеливается на такой шаг, должен вооружиться такими же вескими и святыми аргументами, как сам Бог и Его власть. Никакие руки, кроме особо посвящённых, не могли касаться ковчега Божьего. Но руки, осмеливающиеся изменить свидетельство, лежащее внутри этого ковчега, должны быть святыми втройне» (стр. 128, 129).
Мы всего лишь соглашаемся с этими словами.
После изложения доказательств того, что десять заповедей имеют вселенскую и вечную природу, он вдруг говорит о том, что десятисловие содержит преходящие элементы. Он пишет:
«Нетрудно заметить, что декалог в той форме, которую он имеет, содержит преходящие элементы. Их, однако, легко определить. К примеру, обещание, сопровождающее заповедь об уважении к родителям («дабы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой даёт тебе») имеет отношение только к Израильскому народу, являясь обетованием долгого процветания евреев в их обетованной земле».
Но тут же он показывает, что этот элемент вовсе не преходящий, и что он имеет отношение не только к Израилю, ибо в этом же абзаце он продолжает:
«Однако, даже этот элемент имеет отношение не только к Израилю, ибо Павел цитирует эту заповедь в своём письме христианам в Ефесе (Ефесянам 6:2) как «первую заповедь с обетованием», очевидно, подразумевая, что обетование долгой жизни не ограничено одним только еврейским народом. К тому же весьма очевидно, что нет более весомого вклада в стабильность и долговечность гражданских сообществ, чем законопослушный характер, основанный на уважении высших властей и послушании их воле» (стр. 120, 121). Он заявляет, что десятисловие содержит преходящие элементы. И чтобы доказать это, он приводит в пример такой «преходящий элемент». Затем он сам тут же доказывает, что этот элемент далеко не преходящий. Так чего же стоит его заявление? Любой логически мыслящий человек признает это заявление пустым и ложным. Но эта новая, высоко оценённая логика, стоимостью в пятьсот долларов, здесь безупречно срабатывает; ибо она нацелена на это с самого начала – отменить седьмой день как преходящий элемент, и поставить на его место голое понятие седьмой части недели. Ведь после его же собственных доказательств того, что его «преходящий элемент» вовсе не преходящий элемент, он продолжает:
«Это будет иллюстрацией того, как нам следует относиться к преходящему элементу в заповеди о субботе. Эта заповедь не говорит нам о каком-то конкретном дне, а о седьмой части нашего времени».
Для представителей колледжа Дармоут, и для призового комитета, назначенного ими, а также для американского общества «Тракт» это возможно и является весомым аргументом. Но для тех, кто любит истину, здравый смысл, и честность, этот пример служит всего лишь доказательством жалкой ущербности и не способности выдвинуть стоящий аргумент в поддержку такого ухищрения. Кроме того, его заявление о том, что декалог содержит временные элементы, прямо противоречит его же аргументу, выдвинутому ранее. На странице 116 он уже писал о десяти заповедях следующее:
«Данные заповеди представляют собой не просто некие указания или замечания Бога, ибо Бог может говорить и то, что имеет временное и местное значение; они в самом явном смысле являются словом Божьим, важной частью того «слова, которое пребывает вечно»… В декалоге мы имеем проблеск того внутреннего мотива божественной воли, который пропитывает все его временные повеления… Использованием термина «десятисловие», как и в общем русле постановлений древних евреев, нравственный закон полностью отделён от гражданских и церемониальных постановлений. Первый является вечным откровением божественной воли; вторые же содержат преходящие повеления, ограниченные местом и временем своего применения».
Однако, несмотря на вышесказанное, он смело заявляет, что декалог содержит временные элементы. Но разве могут быть преходящие элементы в божественной воле? Может ли то, что «пребывает вечно» быть временным? И если десятисловие содержит временные элементы, то чем же оно отличается от гражданских и церемониальных постановлений?
Подлинная и последовательная логика представляет собой три ясных пункта:
1. Церемониальные постановления состоят из временных повелений;
2. Декалог совершенно отличается от церемониальных законов;
3. Поэтому декалог не содержит ничего временного.
Но с помощью особой «логики», достойной пятисотдолларового приза, эта логика принимает следующий вид:
1. Церемониальный закон состоит из преходящих постановлений;
2. Декалог полностью отличается от церемониального закона;
3. Поэтому можно вполне заключить, что декалог содержит временные элементы! И поэтому вместе с церемониальной системой устарела и иудейская суббота, которую он просто называет «седьмым днём» (стр. 177, 190).
Одним-единственным аргументом автор сумел устранить седьмой день и поставить на его место «седьмую часть нашего времени»; другим же аргументом он смог отменить эту же «седьмую часть нашего времени», точно так же, как и седьмой день, и вставить вместо неё первый день недели как вечную субботу в качестве вечного постулата.
И снова мы читаем:
«Несмотря на то, что суббота, данная Израилю, имела характеристики, которые указывали и иллюстрировали вечную субботу, нельзя забывать, что она имела свою собственную, полностью отличную самостоятельность… Моисей и в самом деле привнёс нечто новое, нечто отличное от старого патриархального седьмого дня» (стр. 134).
Вместе с этим мы читаем следующее:
«Первым из религиозных установлений, данных освобождённому народу, было то же установление, которое было дано человеку в самом начале» (стр. 110).
Как суббота, данная Израилю, могла быть той же самой, что и данная человеку в самом начале, и всё же иметь своё полностью отличающееся существование? Как она могла быт той же, что и данная человеку в самом начале, и всё же быть чем-то новым спустя 2500 лет? Как она могла быть чем-то отличным от старого патриархального седьмого дня, и всё же иметь в себе истинную субботу? Этого мы понять не в состоянии. Возможно, тот же гений, который может распознать в декалоге нечто преходящее, доказывая при этом, что это преходящее – совсем не преходящее, возможно, этот гений может объяснить нам всё это?
Вот ещё одна иллюстрация изумительных шедевров мысли, которые можно встретить в данном призовом сочинении. На стр. 135 автор пишет:
«В Моисеевой субботе на время и только на время её действия, для особого народа и только для этого народа это вечное установление, данное при творении, было актуально, а сейчас оно так же актуально, только с ещё большей славой в день Господень».
Другими словами,
1. В установлении Моисея, на время её актуальности (1522 года), и не более, было воплощено нечто, что основывается на вечном существовании мира (стр. 28), и что так же вечно, как и сам Творец (стр. 126).
2. В установлении Моисея, предназначенном для конкретного народа и больше ни для кого, было воплощено нечто, что обязательно для каждого сотворённого существа, для всех народов земли во все века истории человечества (стр. 122, 124).
Проще говоря, в установлении, предназначенном для конкретного народа и никого другого, на 1522 года и не больше, имело место воплощение того, что является вечным, и предназначалось для всех народов во все века всемирной истории.
Мы хотели бы, чтобы мистер Элиот, или кто-то из тех, кто был заинтересован в том, чтобы заплатить пятьсот долларов за это сочинение, объяснили нам, как это возможно, чтобы установление, такое же вечное, как и сам Творец, могло быть «воплощено» в чём-то таком, что длилось 1522 года, и не больше, и как такое установление, которое обязательно для всех народов во все века, могло быть «воплощено» в том, что предназначалось для одного народа, и больше ни для кого. И если нам ответят на этот вопрос, мы бы просили о ещё большем снисхождении – сообщить нам, как в Моисеевом законе может совмещаться такие три несовместимых вещи, как:
1. Постоянное установление, данное при творении, то есть седьмой день;
2. Нечто новое, что по словам автора могло и не быть другим днём; и…
3. Установление, которое сейчас имеет ещё большую славу в дне Господнем, которым автор считает первый день недели.
Мы, однако, сомневаемся в том, что мистер Элиот, или кто-либо другой, будет в состоянии ответить на какой-либо из этих вопросов. Потому что ответа на них нет. Эти утверждения противоречат друг другу. Однако эти аргументы подготавливают путь к тому, чтобы называть первый день недели вечной субботой, и эти аргументы являются прекрасной иллюстрацией методов, с помощью которых будет продвигаться это новое установление.
Глава 4
Суббота и искупление
Суббота в связи с искуплением представляет собой тему третьей части сочинения «Вечная суббота», и в ней автор продолжает прилежно противоречить самому себе. Первый раздел этой части посвящён свидетельству Иисуса Христа по вопросу субботы, несколько предложений из которого мы процитируем. Он пишет:
«Как уже сказано, суббота содержала нравственные элементы; она принадлежала исключительно Израилю, но была освящена первоначальным откровением человечеству, будучи первой заповедью закона, данного «от начала»; она была частью того величественного свода заповедей, который устами самого Предвечного был изречён Его избранному народу с горы Божьей; её нарушение связывалось в Моисеевом законодательстве и в пророческих наставлениях с различными наказаниями, а её соблюдение – с благословениями, которые сложно связать с простым ритуалом или обрядом. Вечная суббота, принадлежа нравственному закону, по этой причине и не была опровергнута или отменена Иисусом, а скорее подтверждена новым смыслом, более возвышенными мотивами, и более святыми целями» (стр. 159).
Затем, говоря о ложной строгости, которой иудеи окружили и исказили истинное назначение субботы, и о том, как Иисус всё это разоблачил, он пишет:
«В этом всём нет ни единого намёка на отмену субботы, или освобождение от обязательства её соблюдать. Слова Иисуса теряют смысл, если их применять к чему-либо кроме искажения и предубеждений в отношении её смысла в школах раввинов. Если бы Он хотел отменить её полностью, сделать это можно было бы очень просто несколькими словами. Но Его упрёки всегда обрамлены предельно высоким уважением и заботой, и строго пресекают всякое предубеждение, которое осмелилось бы отвергнуть реальную святость дня, благословенного Творцом и возвеличенного Его нравственным законом» (стр. 163).
День, благословенный Творцом – это седьмой день; ибо Бог благословил именно седьмой день, согласно слову Божьему; а седьмой день – это суббота, как говорит об этом и Божий нравственный закон. Поэтому мы и говорим, что поскольку слова Христа не допускают никаких намёков на упразднение святости дня, благословенного Творцом и подтверждённого нравственным законом, это значит, что Христос в Своём слове велит каждому человеку соблюдать именно седьмой день, и не допускает никакого толкования Его учения, в котором бы упоминалось о каком-то другом дне, кроме седьмого; ибо Бог никогда не благословлял никакого дня кроме седьмого, и не освящал в качестве субботы в своём нравственном законе никакого другого дня кроме седьмого.
И снова автор пишет:
«Иисус подтверждает учение о субботе и его духовное основание. «Суббота создана для человека, а не человек для субботы; посему Сын Человеческий есть Господин и субботы»… Таким образом, Он сразу освободил её от ложных ограничений иудаизма, и, утверждая её на своих первоначальных основах, Он показал её величественное значение в области её отношения к благополучию человека. «Суббота была создана для человека»; не для одних только евреев, а для всего человечества; не только на определённый промежуток времени, но на все века, во всех обстоятельствах во времени и пространстве» (стр. 165).
Затем в другом месте мистер Элиот продолжает:
«Провозглашение книги Бытие находит лучший комментарий в словах Иисуса: «Суббота была создана для человека» (стр. 17). В книге Бытие сказано: «И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал» (Бытие 2:2,3).
Мы совершенно согласны с мистером Элиотом в том, что данные слова Иисуса являются лучшим комментарием, взятым из евангелия от Марка (2:27). Это комментарий самого Господа на Своё же собственное слово; это Его собственное объяснение Его же собственных слов. Поэтому когда мистер Элиот каким-либо выражением или аргументом пытается заменить субботу первым днём недели, он просто-напросто искажает слово Божье, и прямо противоречит божественному комментарию. Согласно его же аргументам, после подробного и логического доказательства, основываясь на обязательстве соблюдать седьмой день недели как субботу Господню, он сразу же начинает всему этому противоречить. Он говорит:
«Сын Человеческий есть Господин и субботы». Это и есть напоминание нашего Господа о Его праве производить такие изменения в заповеди о субботе, и вносить в неё новые поправки, которые Он считает необходимыми для восполнения религиозных нужд человечества. Как Господин субботы, Он без сомнения имел власть совершенно её отменить – власть, которую Он, конечно, нигде не применял - как лично, так и через своих апостолов. Он имел право изменить этот день и изменить либо дополнить его значимость – Он имел право, которое Он и использовал, дав нам день Господень, христианскую субботу, и сделав её памятником искупления, как и памятником творения и провидения. Поскольку Он является «Господином субботы», мы можем по праву называть эту субботу днем Господним, и день Господней нашей субботой. Тот факт, что Он заявил о власти произвести эти изменения, даёт нам право предположить, что Он так и поступил. Более того, мы имеем право заключить, что изменение, которое состоялось в вопросе субботы в период первых веков христианской церкви, произошло не без Его воли, а наоборот, по Его благоволению и намерению» (стр. 168, 169 ).
И снова он пишет: «Деликатней Моисея, однако не менее реально, чем законодатель в пустыне, Он учредил новую субботу» (стр. 172).
Есть несколько пунктов, на каждом из которых мы должны кратко остановиться. Начнём с последнего. Деликатней Моисея, однако не менее реально… он учредил новую субботу. Насколько же деликатно Моисей учредил новую субботу? Он вовсе не учреждал новой субботы, ни деликатно, ни как-либо иначе. Моисей вообще не учреждал какой-то еженедельной субботы, ни новой, ни старой. Бог произнёс слово с небес: «День седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай в оный никакого дела». Как выразился сам мистер Элиот, «не устами ангела или пророка был дан этот величественный свод заповедей, а словами, формировавшимися в воздухе силой самого Вечносущего» (стр. 117). Но вернёмся во время ещё раньше Синая, в пустыню Син, когда с неба начала падать манна. Моисею тогда не было поручено говорить о дне, который был субботой, тем более не поручалось ему учреждать субботу. Но опять же, мистер Элиот утверждает с огромной уверенностью, что сам Бог устроил им пир в пустыне, который якобы послужил им началом еженедельного повторения святого дня… «Связь между чудесным ниспосланием пищи и седьмым днём была определённо рассчитана на то, чтобы утвердить в сознании, мыслях и воображении народа, важность субботы, и таким образом положить верное основание для провозглашения закона на Синае» (стр. 110).
Этот же седьмой день, который был обозначен для Израиля чудом манны в пустыне Син, и который был перед их глазами сорок лет, это и был тот же седьмой день, который слово Божье провозгласило в раскатах грома силой самого Предвечного, и объявило субботой Господней. Это был тот самый седьмой день, который по этому же самому слову стал днём отдыха Божьего при сотворении мира, и который Он при сотворении благословил и освятил. Это была та единственная еженедельная суббота, которая была всегда известна Моисею и Израилю; и с этой субботой Моисей не совершал никаких дополнений, - ни деликатно, ни как-то по-другому. И когда мистер Элиот говорит о Христе, который, якобы, деликатней Моисея, но всё так же реально… учредил новую субботу, то по его же рассуждениям, Христос не мог учреждать вообще никакой новой субботы. И это правда.
То, что Он назвал подвластным Ему, или Его изменениям, мы правомочны считать изменённым Им – говорит мистер Элиот. Но неужели полноправность «христианской субботы» должна основываться на предположении? Неужели первый день недели должен называться святым из-за простой догадки? День, получивший от Божества величественный и ярчайший статус из всех возможных; день, отмеченный словом, звучавшим в воздухе силой самого Предвечного; день, о котором напоминали еженедельные чудеса целых сорок долгих лет – неужели этот день можно просто заменить другим, - тем, который стал равнозначным святой субботе на основании одного лишь предположения, выведенного из слов Иисуса о Его власти сделать это? Всякое такое предположение совершенно неправомочно. И мы докажем на основании слов самого мистера Элиота, что его предположение необоснованно.
Христос сказал: «Сын человеческий есть Господин и субботы». В этом заявлении подразумевается столько же власти полностью упразднить субботу, сколько власти изменить её. Поэтому, согласно предположению мистера Элиота, основываясь на этом заявлении, мы имеем столько же прав предположить, что Христос устранил субботу вообще, сколько прав предположить, что Он Своей властью изменил её. Мистер Элиот говорит: «Как Господин субботы, Он без сомнений имел власть полностью устранить её. Поэтому, если Его упоминание об этой власти сделать такое даёт нам и право предположить, что Он сделал это, то почему бы не предположить, что Он полностью отменил институт субботы? Но нет, мистер Элиот не допускает такого предположения. Но в следующем же предложении он говорит, что Господь имеет право изменить Свой день, и поскольку Он допускает такое в Своей власти, то мы имеем право предположить, что Он это сделал. На основании этого делается вывод, что какое бы изменение ни происходило с субботой, это изменение было сделано Его властью и исполнило Его намерения. Мы повторимся, что аргументы мистера Элиота допускают, что в цитируемых словах Христа такая же возможность предположить, что Он имеет власть полностью отменить субботу, или сделать что Ему угодно, как например, изменить этот день. Согласно аргументам мистера Элиота, предположение о том, что суббота была изменена, равнозначно предположению о том, что она была устранена вообще, или что с ней сделали что-либо иное, что только можно себе представить. Но когда мистер Элиот озвучивает своё предположение, которое в равной степени должно допускать любое другое предположение, пришедшее нам в голову, то конечно, выбор именно этого предположения зависит исключительно от человека, которому оно понравилось. А это значит, что предположение это было полностью надуманным и своевольным.
Христос заявил о Своей власти поднять всех мёртвых из могил. Согласно логике мистера Элиота мы имеем право предположить, что Он уже сделал это. Христос заявил о Своей власти устранить смерть. Согласно этим новым рассуждениям мы имеем право предположить, что Он уже сделал это. Тем не менее, каждый знает, что такие предположения будут абсолютно ложными. И они будут не более ложными, чем предположение мистера Элиота, что Христос изменил субботу. Его предположение просто абсурдно. Да и к тому же мы не имеем никакого права принимать какие-либо из его предположений в счёт.
Христос казал: «Когда вы исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать» (От Луки 17:10). Ни один человек не может сделать ничего такого, что не было бы его долгом сделать. Когда мы делаем всё, что нам велено, мы всего лишь исполняем свой долг. Поэтому ничто не может быть долгом, кроме того, что было велено. Ни один человек никогда ещё не процитировал заповеди Божьей о соблюдении первого дня недели. Такой заповеди просто не существует. Поэтому пока Бог не даст нам заповедь, которая обязывает соблюдать первый день недели, не может идти речи о долге в отношении этого. Предположения мистера Элиота, за которые он получил пятьсот долларов, несмотря на всё это, говорят об обратном.
Глава 5
Свидетельство апостолов
Следуя за автором статьи «Вечная суббота» через различные заголовки, под которыми он излагает свои аргументы, объясняет свою логику, сразу же после «свидетельства Иисуса» мы сталкиваемся с его так называемым «апостольским свидетельством». Перед тем, как рассмотреть его первое ясное предположение под этим заголовком, мы желаем повторить одно предложение из раздела «Свидетельство Христа»: «Как Господин субботы, он несомненно имел власть полностью отменить её – власть, которая определённо нигде не применялась, ни Им, ни Его апостолами» (стр. 168). Вот оно – ясное, конкретное утверждение о том, что Христос нигде не применял Свою власть отменить субботу, ни лично, ни через Своих апостолов. А теперь, пожалуйста, прочтите следующее: «Иудейская суббота несомненно отменена апостольской властью» (стр. 175).
Да, в последнем утверждении автор прибавляет к термину «суббота» слово «иудейская»; но на странице 190 он сам называет иудейской субботой седьмой день. А, как сказал Господь Небесный, «седьмой день – суббота Господу Богу твоему», и именно в этот день Господь почил, именно этот день Он благословил и освятил; и от сотворения мира это был единственный день, известный под именем «суббота»; поскольку этот день – единственный, который называл субботой сам Христос и Его апостолы; ввиду всего этого добавленный автором эпитет «иудейская» ни в коей мере не делает последнее утверждение менее противоречащим предыдущему.
Поэтому, поскольку Христос нигде не упразднял субботу, ни Сам, ни через Своих апостолов, и как единственная еженедельная суббота, известная Ему или Его апостолам, ни при каких обстоятельствах не была отменена, из этого следует, выражаясь словами автора, что даже если бы апостолы и отменили его, на это не было бы разрешения Христа. К тому же Господь не позволит этому случиться никогда. Но как автор избегает этого противоречия? Очень просто. Он снова противоречит и себе и своим выводам: «Как уже было показано, суббота десятисловия была отменена апостольской властью, в согласии с развивающимся учением Иисуса Христа (стр.186)».
Мы умоляем наших читателей не думать, что мы вырываем все эти предложения из данного труда с целью находить противоречия, или что мы пытаемся сгущать краски, искать недостатки с целью преувеличивать их. Противоречия видны сами по себе. Мы просто озвучиваем их по мере того, как встречаемся с ними. Мы вообще-то считаем, что нет нужды сгущать краски или пытаться сделать ситуацию хуже, чем она есть на самом деле. Мы бы желали, чтобы всё было не так, но не можем с этим ничего поделать; мы желаем, чтобы люди увидели самые убедительные аргументы в пользу воскресного дня, учитывая тот факт, что за эти аргументы автор удостоился премии в пятьсот долларов.
Продолжим. В доказательство своего мнения о том, что так называемая им «иудейская суббота» неизменно упразднена апостольской властью, он утверждает: «Не удивительно, что апостолы так мало смирялись с предложенным продолжением рабства, от которого Христос освободил их (Галатам 5:1). Разве Он не «отнял рукописание», которое было против них, пригвоздив его ко кресту? ( стр . 176)» Но суббота ни в коем случае не может быть отнесена к тем « постановлениям », которые были « против нас ». Христос сам сказал : « Суббота сотворена для человека ». Это и есть бесспорное доказательство тому, что суббота не была частью тех постановлений, которые, согласно слов Павла, были «отняты». Ибо те постановления, которые были упразднены, были «против нас» (Колосянам 2:14); если, конечно, высоко оценённые аргументы мистера Элиота не имеют ввиду, что одно и тоже может быть как за нас, так и против нас одновременно. Видя все изумительные свойства этой драгоценной логики, мы, однако, сомневаемся в том, что она способна на такой поворот. Тем не менее, основываясь на вышеуказанных аргументах, он выдвигает следующее предположение: «Вместе с церемониальной системой была упразднена и иудейская суббота» (стр. 177).
Доказать обратное нам стоило бы определённых усилий, но в этом нет никакой нужды, поскольку автор делает это сам, и делает это настолько блестяще, что мы можем всего-навсего повторить его слова. О законе, данном на Синае, он говорит: «Четвёртая заповедь является неотъемлемой частью закона, провозглашённого таким впечатлительным образом. Посреди облака славы, посреди этих же громов и молний, этим же величественным голосом были изречены в числе прочих слова Бесконечного: «Помни день субботний, чтобы святить его». Ввиду этих фактов невозможно отнести субботу к церемониальным постановлениям Израиля. Посредством священной печати божественных уст и перстов она была превознесена высоко над этими обрядами, «близкими к погибели» (стр. 118).
Это факт. Невозможно, даже прибавляя к субботе эпитет «иудейская», отнести седьмой день к церемониальным обрядам Израиля. Потому что… «Посреди облака славы, посреди этих же громов и молний, этим же величественным голосом были изречены в числе прочих и эти слова: «Помни день субботний, чтобы святить его», и этим же голосом: «Седьмой день – суббота (не иудейская, а) Господу Богу твоему. Этот день возвеличен превыше всех преходящих церемоний и обрядов, которые были против нас. Поэтому, хотя церемониальная система упразднилась, суббота остаётся; ибо она является важнейшей частью не церемониальной системы, а самого нравственного закона.
Но мистер Еллиот на этом не останавливается. Он продолжает: «Таково отношение апостольского учения к иудейской субботе. Бремя отцов с его церемониальными требованиями было свергнуто. Обременяющие узы традиции были разорваны, и ранняя церковь навсегда избавилась от «постановлений, которые были вовсе не благими, и от судов, которыми они не должны были жить» (Езекииль 20:25) (стр. 180).
Пожалуйста, прочитайте ещё раз сказанное о субботе из четвёртой заповеди:
«Суббота принадлежит тому нравственному закону, который Павел называет «святым, праведным и добрым» (Римлянам 7:12), а не к тому ритуальному циклу обрядов, о котором Пётр говорит: «Его не могли понести ни отцы наши, ни мы» (Деяния 15:10) (стр. 118,119).
Итак, бремя, которое было свергнуто, не имеет никакого отношения к субботе; и постановления, которые «не были добрыми», и так далее, и от которых ранняя церковь была избавлена, были не теми, которые включали в себя субботу, ибо эти заповеди «святы, праведны и добры».
Более того, мы бы желали знать, на каком принципе и основании автор «Вечной субботы» относит свою фразу «обременяющие узы традиции» к установлению, данному прямым словом Бога, голосом, потрясшим землю, к заповеди, записанной на каменных скрижалях божественным перстом. Ведь под словами «иудейская суббота» он однозначно имеет ввиду седьмой день, а именно этот день был заповедан голосом самого Бога. Но почему-то этот день должен по его мнению быть отменён как «обременяющие узы традиции», а на его месте должен быть другой день – воскресенье, о святости которого мы не находим в слове Божьем ни намёка, ни тени намёка, и авторитет которого основывается исключительно на таких фразах как «мы имеем право предположить», «право считать», «возможно», «очевидно», «по всей вероятности», а также на религиозном консенсусе христианской церкви (стр. 203); и во всём этом мы не должны видеть ничего похожего на традиции!
И снова мы читаем:
«Уже было показано, что суббота является частью нравственного закона; что она имеет вселенское значение, и так же стара, как и сам человек; она несёт в себе духовное значение; на имеет разумное и обоснованное место и роль в физическом, умственном и моральном становлении человека; она была включена в декалог – описание нравственного закона, данного Израилю; она была подкреплена такими угрожающими наказаниями за её нарушение и такими обещанными благословениями за её соблюдение, которые никогда не сопровождали обычное церемониальное постановление; Иисус подтвердил эти исторические и рациональные доказательства Своим примером и Своим учением» (стр. 183).
Это правда, и сформулирована она весьма точно. Но теперь взгляните на потрясающий вывод, который делает автор: «Следовательно, будучи частью нравственного закона, это установление утверждено на основании апостолов всяким словом и выражением, в которых апостолы называют этот закон по-прежнему актуальным и обязательным для людей» (стр. 184).
Будучи частью нравственного закона, это установление утверждено как апостольское постановление? Неужели нравственный закон – это апостольское постановление? Неужели нравственный закон произошёл от апостолов? Неужели принципы нравственного закона находят своё начало и власть в решениях и действиях апостолов? Признаться, трудно даже найти определение, которое точно отразило и охарактеризовало бы такое нелепое предположение. Трудно даже себе представить человека, который, имея хоть малейшее представление о нравственном законе, выступил бы с таким заявлением. Мы не можем позволить себе милостиво предположить, что это заявление было сделано по неведению; ибо мистер Элиот сам предоставил нам совершенно точное представление о фундаментальных причинах существования нравственного закона, и не только нравственного закона в общем, но также и субботы как неотъемлемой части этого закона. Он сам говорит:
«Предположим, кто-то задаст вопрос: Как нам убедиться в ценности какой-либо заповеди, в её обоснованности, а не просто довольствоваться тем, что эта заповедь дана Всевышним? Какой аргумент может быть лучше, чем истина о том, что нравственные принципы закона имеют своё основание и воплощение в самой природе Бога? Наше высочайшее восприятие нравственного закона коренится в том факте, что он описывает природу самого Бога… Все должны согласиться с тем, что не существует более совершенного объяснения нравственной природы закона, чем тот факт, что по этим принципам живёт само Божество; что эти принципы царят в делах и в бесконечной воле Того, кто имеет верховную власть как в физическом, так и нравственном управлении вселенной. Этот закон, которому сам Творец подчиняет Своё естество, должен быть абсолютным обязательством каждого сотворённого им существа, созданного по Его образу. Таков закон субботы. «Бог покоился в день седьмой», и таким образом придал заповеди о субботе высочайший и сильнейший авторитет из всех, что может представить себе само Божество» (стр. 23, 24).
Таково, по сути дела, происхождение, фундамент и власть всяких нравственных принципов; таково происхождение и основание нравственного обязательства, связанного с седьмым днём. Этот день – единственный день, который когда-либо имел такие санкции; поэтому седьмой день – единственный день, который может иметь и имеет при нынешнем положении вещей какое-либо право на такое нравственное рассмотрение со стороны человека.
Вышеуказанное утверждение о фундаменте нравственного обязательства красноречиво показывает нам абсолютную абсурдность идеи о том, что суббота, будучи частью нравственного закона, утверждена как апостольское постановление. Как можно было прийти к тому выводу? Но почему-то автор решительно называет первый день недели субботой. Он знает, что никакого основания для этого не может быть до времени апостолов; он знает, что даже если этот день был назначен ими, он не может иметь никакого веса и значения за пределами церкви, если не будет основан на нравственном законе. Поэтому, противореча своим собственным доказательствам, отвергая все принципы фундамента нравственного закона, он вынужден сделать апостолов фундаментом самих нравственных обязательств. Но лучше было бы ему этого не делать, потому что сама эта идея будет отвратительной для каждого человека, который немного задумается над этим вопросом. Апостолы были не авторами, а подчинёнными всех нравственных обязательств Бога.
Заметьте опять же, что утверждение, которое мы здесь обсуждаем, представляет собой вывод, сделанный из вышесказанного автором; мы же должны отдать должное автору, поскольку из его же собственных утверждений мы, опираясь на его же логику, видим всё, что нам открывается, а такое случается весьма редко. Основанием для выводов автора является его предположение о том, что апостолы, утверждая нравственный закон, установили обязательство субботы. При этом автор утверждает, что апостолы Иисуса Христа, подобно Ему самому, как это было на горе благословений, переопределили для церкви весь декалог в его вселенской значимости (стр. 181, 182).
Определить, согласно словарю Вебстера, означает учредить, установить посредством юридических полномочий и действий, сделать законом. Следовательно, переопределить, означает переустановить, переучредить, посредством юридических полномочий и действий, сделать законом заново. Если же после учреждения Богом и переопределения Христом десять заповедей по-прежнему нуждались в подтверждении апостолов, нуждались в юридическом переопределении апостолов, чтобы иметь законную силу в качестве нравственного стандарта, тогда мы признаем, что вывод мистера Элиота о субботе как о части нравственного закона, утвержденного в качестве апостольского постановления, совершенно логичен. Но мы серьёзно сомневаемся в мудрости, и в целесообразности уплаты приза в пятьсот долларов за такой стиль рассуждений, который может быть логичен только в одном направлении каждого принципа философии и нравственных обязательств. Однако эти рассуждения совершенным образом исполняют намерения автора. Свой главный аргумент, основанный на свидетельстве апостолов, он заканчивает так: «Несомненно, исторические доказательства можно предоставить для любого из этих фактов. Также несомненно и понятно то, что суббота закона была отменена апостольской властью, в соответствии с развивающимся учением Иисуса Христа. Но хотя суббота закона и перестала существовать, закон субботы остался в силе» (стр. 185, 86).
Но если суббота закона отменена, а закон субботы остался, то из этого следует, что закон субботы остался без субботы. Но этого, конечно, быть не может. К такому выводу ведут рассуждения автора, и автор умело расправляется с этим аргументом. Он продолжает так: «Чрезвычайно велика вероятность того, что день Господень, воплотивший в себе дух субботы, был установлен непосредственной властью апостолов, а значит верховной властью их Господа, Иисуса Христа» (стр. 186).
Таким образом, наконец применён последний приём с целью вставить воскресенье в четвёртую заповедь. Чрезвычайно велика вероятность того, что читатель сам видит, как это сделано. Но для полной завершённости на каждом этапе необходимо было сделать ещё одно дело – перенести на первый день недели все те свойства и особенности, которыми Бог наделил седьмой день. И мы снова обращаемся к самому мистеру Элиоту, чтобы узнать, как это было сделано, потому что он своё дело делает весьма умело и симметрично. Он говорит: «Нетрудно понять, каким образом иудейская суббота должна была почти сразу потерять свою ценность в глазах апостолов… Самым знаменательным образом все радостные и священные чувства, неразделимые от истинного представления о субботе, были навсегда оторваны от седьмого дня… И посредством этого естественного отвращения чувств всё оторванное от седьмого дня было перенесено на первый день недели» (стр. 188).
Вот она – умелая работа; вот как достигается цель; вот как пройдено главное препятствие; вот как первый день недели стал «вечной субботой». И основывается этот фундамент на одной-единственной «высокой вероятности», а святость его основывается на «самом естественном повороте чувств». Но, невзирая на все эти «вероятности», какими бы высокими они ни были, невзирая на все его предположения о «повороте чувств», какими бы естественными они ни были, мы имеем перед собой ясное слово Божье, которое живо и действенно, которое пребывает вовек, называя седьмой день «субботой Господа Бога твоего, не делай в этот день никакого дела».
Глава 6
Происхождение дня Господня
Проведя нас через сто восемьдесят страниц смеси фактов и выдумок, истины и заблуждения, противоречий и несогласованности с Писанием, здравым смыслом и с самим собой, автор «Вечной субботы» приходит к важнейшему выводу о том, что «в высочайшей степени вероятно», что день Господень (то есть воскресенье) был учреждён непосредственной властью апостолов, и что посредством самого естественного отторжения чувств всё, что утратил седьмой день, было перенесено на первый день недели. И только после всего этого автор приступает к обсуждению происхождения этого так называемого «дня Господня». Говоря о воскресении Христа, он заявляет: «Идея завершённости, воплощённая в числе семь и применённая в субботе как памятнике завершённого творения, перенесена (естественным «разворотом чувств», как мы предполагаем, конечно) на день Господень, как на памятник завершённого искупления» (стр. 189).
О том, было ли искупление завершено по воскресении Спасителя из мёртвых, и было ли оно вообще завершено в тот день, мы должны узнать, убедившись в праве на это мистера Элиота или любого другого человека, заявляющего об институте, основанном всего лишь на «высокой доле вероятности» и освящённом «естественным поворотом чувств». И насколько же сильно мы должны убедиться в этом праве, когда речь идёт о самом искуплении, которое не только не было завершено при воскресении Христа, но не будет завершено до самого конца мира! Апостолы спросили Спасителя о признаке Его пришествия и кончины века. И Он ответил: «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутится; люди будут издыхать от страха и ожидания [бедствий], грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается искупление ваше» (От Луки 21:25-28).
Эти признаки были явлены только после 1780-го года; ибо только тогда солнце «превратилось в тьму», и с луной случилось то же самое. Поэтому слова Христа ясно показывают, что искупление совершится не по воскресении Христа, и даже не на протяжении 17-ти с половиной столетий после этого события. Об этом же говорил и Павел. Он пишет: «и не только [она], но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего» (К Римлянам 8:23). Наши тела будут искуплены при воскресении мёртвых. «От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их» (Осия 13:14). Воскресение же мёртвых состоится при втором пришествии Господа, «потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем» (1-е Фессалоникийцам 4:16,17). Поэтому Павел, говоря о нашем искуплении, отводит ему место там, где его видит Христос, то есть при втором пришествии Господа, а не во время Его воскресения.
И снова Павел пишет: «В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, Который есть залог наследия нашего, до времени искупления удела [Его], в похвалу славы Его» (К Ефесянам 1:13,14). Этот обетованный Дух Святой был дан только после дня Пятидесятницы, то есть через сорок девять дней после воскресения Христа; и Дух, по словам Павла, и является залогом нашего наследия, не «для», а до времени искупления удела Его. Этим же Духом Святым, как пишет Павел, мы искуплены «до дня искупления» (Ефесянам 4:30). Поскольку Дух Святой был дан, чтобы сопровождать верующих в Иисуса «до дня искупления», и поскольку Дух Святой был послан только спустя сорок девять дней после воскресения Христа, то мы можем быть уверены в том, что воскресение Христа не может быть памятником совершённого искупления. И когда мистер Элиот, или кто-то ещё, в частном порядке или решением общего совета христианской церкви, устанавливает первый день недели в качестве памятника совершённого искупления, он тем самым искажает библейское учение об искуплении, и называет тьму светом, а заблуждение истиной.
И снова автор пишет о первом дне недели: «Это и есть вечная суббота. Именно в первый день недели Спаситель воскрес. Интересно отметить, что эта фраза – «первый день недели» - представляет собой один- единственный случай, когда в Библии какой- либо день недели упоминается по своему номеру – первый день недели – не считая седьмого дня, или иудейской субботы. Восемь раз этот термин используется в Новом Завете, пять из которых он встречается в связи с упоминанием воскресения Господа. Другие же дни не имеют никаких отличительных названий, кроме разве что шестого дня недели, названного «кануном субботы», или «днём приготовления». Поэтому первый день недели отмечен таким знаменательным образом наряду с седьмым днём, что это открывает нам его значимость, которую невозможно не заметить» (стр. 189, 190).
Если восьмикратное упоминание первого дня недели в Новом Завете делает его таким знаменательным и придаёт ему такую значимость, как это себе вообразил мистер Элиот, то почему упоминание о субботе пятьдесят девять раз в Новом Завете (в отношении седьмого дня и только седьмого дня) не придаёт этому дню никакой значимости вообще? Если уж упоминание какого-либо дня будет придавать соответствующую значимость этому дню, то день, упоминаемый больше всех, и должен иметь наибольшую значимость. Но мы наблюдаем прямо противоположное: день, упомянутый восемь раз назван значимым, а день, упомянутый более, чем в семь раз чаще, не имеет совсем никакой значимости! Автор упоминает значимые тексты, в которых первый день недели упоминается вместе с седьмым, но ни в одном из случаев он не замечает этот факт. Мы должны сделать это вместо него; ибо мы затронем очень существенную взаимосвязь ввиду его теории о том, что первый день недели является «вечной субботой».
Первое упоминание первого дня недели в Новом завете содержится в евангелии от Матфея (28:1): «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб» (От Матфея 28:1). Здесь прослеживается важная взаимосвязь между субботой – седьмым днём недели – и первым днём недели. Эта взаимосвязь состоит в том, что суббота закончилась перед тем, как начался первый день недели.
Следующее упоминание содержится в евангелии от Марка (16:1,2): «По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы идти помазать Его. И весьма рано, в первый [день] недели, приходят ко гробу, при восходе солнца» (От Марка 16:1,2). Здесь мы также видим существенную связь между субботой и первым днём недели; суть этой взаимосвязи в том, что суббота «проходит» перед тем, как наступает первый день недели. Заметьте также, что эти женщины пришли к могиле очень рано в первый день недели, но несмотря на раннее время этого дня, суббота уже закончилась. Значение этого открытия в том, что мистер Элиот, и любой другой на его месте, может проснуться очень рано утром в первый день недели, настолько рано, насколько пожелает, но субботу он всё же не застанет. Он обнаружит, что суббота уже прошла. Суббота не будет иметь место в первый день недели.
Третье упоминание содержится в евангелии от Луки (23:54-56; 24:1): «День тот был пятница, и наступала суббота.
Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и как полагалось тело Его; возвратившись же, приготовили благовония и масти; и в субботу остались в покое по заповеди… В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие».
В этом отрывке взаимосвязь между субботой и первым днём недели значима вдвойне. Ибо здесь сказано не только о том, что суббота проходит перед тем, как наступает первый день недели; здесь сказано не только о том, что, хотя люди могли подниматься очень рано утром в первый день недели, было уже слишком поздно, чтобы застать субботу. Здесь сказано ясно, что прошедшая суббота, которая уже прошла к тому дню, была субботним днём согласно заповеди. Поэтому данными текстами слово Божье доказывает как ничем иным, что воскресенье, или первый день недели, или так называемый «день Господень», не является субботой согласно заповеди Божьей, и что когда люди покоятся в воскресенье, в первый день недели, они покоятся не «согласно заповеди». Здесь также доказано, что суббота «согласно заповеди» - это не просто седьмая часть времени, не просто один день из семи, а определённый день – седьмой день недели, день, предшествующий тому дню, в который Христос воскрес из мёртвых.
Мы повторим, что тексты, в которых седьмой день каким-то образом связан с первым в Писании, представляют собой огромную значимость. Они настолько важны, что совершенно невозможно с искренним сердцем принять первый день недели за субботу. Они доказывают самым явным образом, что день, предшествующий дню воскресения Христа из мёртвых, день, предшествующий первому дню недели, является субботой согласно заповеди Божьей; и поэтому именно седьмой день, а не первый, является вечной субботой.
Но автор продолжает: «После нескольких явлений Спасителя в день Своего воскресения, мы не находим никаких записей до тех пор, пока через неделю, первый день недели снова не был почтён Господом (Евангелие от Иоанна 20:26). Точное упоминание времени, которое не свойственно даже точности Иоанна, очень явно отмечает и подтверждает особую значимость, которой уже обладал «первый день недели» во время написания евангелия» (стр. 190).
Из упоминания мистером Элиотом слишком точного обозначения дня, не свойственного даже для точности Иоанна, мы, естественно, должны предположить, что в приведённом тексте точно упомянут именно первый день недели; мы ожидаем того, что, открыв эту книгу, мы прочтём конкретные слова, такие как «первый день недели», и тому подобное. Давайте же прочтём упомянутый отрывок, чтобы увидеть степень точности выражения о первом дне недели. Данный текст гласит: «После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам!» (От Иоанна 20:26) И это названо точным упоминанием, придающим значение первому дню недели! Как вы заметили, в этом тексте даже первый день недели не упомянут. Это высказывание вообще не имеет никакой точной информации, сообщая одни неопределённые сведения. Иоанн написал: «после восьми дней…» Если мистер Элиот скажет нам точно, что после этого срока за данным событием наступил следующий день после восьми указанных, то мы спросим у автора «Вечной Субботы»: Неужели первый день недели наступает каждые девять дней, согласно его предположению о точности упоминания времени, редкой даже для Иоанна? И если он называет это точностью, то какова же, по его мнению, неточность? Возможно, кто-то спросит, каким был упомянутый день. Мы не будем мудрствовать сверх того, что написано. Как слово Божье говорит, что это случилось после восьми дней, не упоминая, насколько «после» восьми дней, мы не можем знать ничего более определённого о том, какой же день был тогда, чем то, что само слово Божье сообщает нам, а именно: после восьми дней. Нам знакомо подобное выражение в евангелии от Матфея (17:1): «По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних». Мы знаем, что запись Луки об этом же событии гласит: «После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел Он на гору помолиться» (От Луки 9:28). Поэтому мы видим, что вдохновенное слово, описывая какие-то события, приблизительно приравнивает шесть дней к восьми, а восемь дней, соответственно, к десяти, и так далее. И во всех этих описаниях, при всей их неопределённости и приблизительности, только один Бог знает, каким днём был упомянутый день.
Но, хотя мы вообще ничего не знаем о том, какой это был день, мы точно знаем, каким днём этот день не был. Мы знаем, что встреча, предшествовавшая данному описанию, состоялась в первый день недели (Евангелие от Иоанна 20:19). Мы также знаем, что следующий первый день недели наступил спустя неделю (не больше, не меньше) после указанного дня. Мы знаем точно, что неделя состоит их семи дней. И поскольку слово Божье ясно сообщает, что последующая встреча состоялась «по прошествии дней восьми», мы точно знаем из слова Божьего, что вторая встреча состоялась не в первый день недели. Что же Писание говорит о первом дне недели? И каково значение и смысл частого явления Спасителя в день Своего воскресения? Давайте почитаем.
1. «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб» (От Матфея 28:1). Здесь сказано всего лишь то, что эти две женщины отправились к могиле Иисуса в первый день недели. Содержится ли здесь какой-либо повод для соблюдения первого дня недели? Вовсе нет.
2. «По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы идти помазать Его. И весьма рано, в первый [день] недели, приходят ко гробу, при восходе солнца» (От Марка 16:1,2). Может ли хоть что-либо в данном тексте указывать на первый день недели как на святую субботу? Как может первый день недели быть субботой, тогда как суббота согласно данному свидетельству в начале этого дня «уже прошла»?
3. «В первый же день недели, очень рано, (женщины, пришедшие из Галилеи) неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие» (От Луки 24:1).
4. «В первый же [день] недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба» (От Иоанна 20:1)
Заметьте, что данные четыре свидетельства, - по одному от каждого из авторов Евангелия – являются не свидетельствами четырёх разных событий, а свидетельствами одного и того же события, состоявшегося в одно и то же время, в один и тот же час. Каждое из них сообщает о том, что случилось утром одного из первых дней недели, и единственный факт, открывающийся нам из всех четырёх свидетельств, относящийся к первому дню недели, заключается в том, что некоторые женщины пришли к могиле Иисуса очень рано утром. Что же в этих свидетельствах может служить основанием для соблюдения первого дня недели как субботы? Ничего . В Евангелиях первый день недели упоминается ещё два раза – евангелистами Марком и Иоанном. В свидетельстве Иоанна, как и в конце свидетельства от Марка, сказано примерно об одном и том же времени, только время было вечерним, в то время как другие свидетельства говорят об утреннем времени этого же самого первого дня недели.
Вот как пишет Марк: «Воскреснув рано в первый [день] недели, [Иисус] явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с Ним, плачущим и рыдающим; но они, услышав, что Он жив и она видела Его, - не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение (смотри евангелие от Луки 24:13-48). И те, возвратившись, возвестили прочим; но и им не поверили. Наконец, явился самим одиннадцати, возлежавшим [на вечери], и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили» (От Марка 16:9-14).
Об этом же самом дне Иоанн пишет: «В тот же первый день недели вечером, когда двери [дома], где собирались ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам! Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа» (От Иоанна 20:19,20).
Мы перечислили все тексты из четырёх Евангелий, в которых используется термин «первый день недели». Вкратце все эти тексты можно подытожить так: Когда суббота закончилась, очень рано утром ко гробу пришли женщины, и обнаружили, что камень отвален от гробницы, а Иисус воскрес. Тогда Иисус явился Марии Магдалине, а она пошла и сказала ученикам, что Иисус воскрес. Но они не поверили. Затем Иисус явился двум ученикам, когда они шли по дороге, а те пошли и сообщили об этом другим, которые ещё не верили. Тогда Иисус явился всем собравшимся вместе, и упрекал их за их неверие, жестокосердие, потому что они не поверили тем, кто видел Его после Его воскресения. Затем Он показал им Свои руки, Свои ноги, и Свой раненый пронзённый бок, и сказал: «Вот руки Мои и ноги Мои, и весь Я сам. Ощупайте Меня, и убедитесь… Есть ли здесь у вас какая пища? И они дали ему кусок запечённой рыбы , и мёда . Он взял его, и ел перед ними» (Евангелие от Луки, 24:39-43).
А теперь взглянем на все эти тексты целиком, и ответим на вопрос: Где же в них есть хоть одно слово, которое несёт идею о том, что кто-либо соблюдал первый день недели, или что этот день должен когда-либо соблюдаться в качестве субботы или с любым другим религиозным намерением? Мы не найдём ни одного такого слова. Писание повсюду говорит нам, что целью постоянных явлений Иисуса было не учреждение какой-то новой субботы, ибо об этом не сказано ни слова, а в том, чтобы убедить Своих учеников в подлинности Его воскресения, в том, что Он снова жив, чтобы они могли свидетельствовать об этом. Вышеуказанные тексты говорят именно об этом. Фомы не было среди учеников в это время, и он по- прежнему не верил, и поэтому, в другой раз, после восьми дней, когда Фома уже был с ними, и Христос пришёл к ним снова, чтобы убедить его, Он сказал всем: «Мир вам», а к Фоме обратился со словами: «подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим» (От Иоанна 20:27).
Пётр тоже говорит об этом: «Сего Бог воскресил в третий день, и дал Ему являться не всему народу, но свидетелям, предъизбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили, по воскресении Его из мертвых» (Деяния 10:40,41). «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели» (Деяния 2:32). В тот вечер, в день Своего воскресения, когда Он повелел одиннадцати ощупать Его и убедиться в том, что это Он, когда Он ел печёную рыбу и мёд, Он сказал им: «так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день,… Вы же свидетели сему» (От Луки 24:46- 48).
Пётр также говорил: «вы Начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели» (Деяния 3:15). Они были свидетелями того, что Христос воскрес из мёртвых, потому что только живого Спасителя, и веру в живого Спасителя, можно проповедовать. Как же они стали такими свидетелями? Христос явил Себя им, ел и пил с ними, после Своего воскресения из мёртвых. Так для чего же Он явился в первый день недели, упомянутый в четырёх Евангелиях, а также позже, в случае с Фомой? Чтобы дать им неоспоримые доказательства того, что Он жив, после Своих страданий (Деяния 1:3). Где же сказано о первом дне недели в качестве субботы? Нигде. В данных текстах, во всех четырёх Евангелиях, где сказано о первом дне недели, разве встречается идея о том, что этот день должен соблюдаться в качестве субботы? Нет ни одного такого упоминания.
Но мистер Элиот утверждает: «Эти неоднократные явления Иисуса в первый день недели, несомненно пробудили первые побуждения того обычая, который очень быстро разросся в церкви, делая этот день отделённым для религиозных собраний и поклонения… Этот почин, по всей видимости, сильно возрос и укрепился посредством чудес Пятидесятницы, если этот праздник совпал, что вполне вероятно, с первым днём недели. Этого взгляда придерживалась ранняя традиция церкви и многие выдающиеся богословы» (стр. 190, 191).
Да, в этом не было бы никаких сомнений, если бы мы основывались на том, что «вероятно», как пишет автор. Но в противовес предположению о ранней традиции церкви, и многим «выдающимся учёным», мы приведём такое же количество таких же выдающихся учёных, и плюс к этому свидетельства слова Божьего. Правда, что день недели, на который выпала Пятидесятница, не имеет никакого значения сам по себе, и никак не влияет на святость того, что произошло в этот день. Слово Божье назвало этот день именно Пятидесятницей. Это был день праздника со своими церемониями, которые должны были встретиться со своей целью, с реальностью, на которую и указывали эти обряды. И все знали, что Пятидесятница выпадала на разные дни недели в разные годы; как, например, рождество, или четвёртое июля, или любой другой ежегодный праздник. Поэтому, какими бы ни были эти праздники, они не давали никакого повода придавать особое значение дню, на который они выпадали. Но, несмотря на всё это, желающие называть первый день недели субботой с таким неустанным энтузиазмом всегда заявляют, что Пятидесятница выпала именно на первый день недели, что нам даже как-то неудобно опираться на Писание, показывающее, что этот факт ничего не значит.
Слово «пятидесятница» означает пятидесятый день. Этот день всегда отсчитывался от шестнадцатого дня первого месяца. Он также назывался праздником недель, потому что он отсчитывался после семи полных недель со дня принесения первых плодов, то есть со второго дня опресноков, или шестнадцатого дня первого месяца. На четырнадцатый день первого месяца всякая закваска должна была удалиться из всех жилищ. Они должны были заколоть пасхального агнца вечером четырнадцатого дня, и с этим агнцем в начале пятнадцатого дня месяца, они должны были есть бесквасный хлеб. Этот праздник опресноков должен был продолжаться до двадцать второго дня месяца. Первым днём этого праздника, то есть, пятнадцатым днём месяца, должна была быть суббота, в которую нельзя было делать никакой обычной работы (Исход 12:6-8, 15-19 Левит 23:5-7). Из-за освобождения жилищ от закваски в четырнадцатый день, и начала употребления бесквасного хлеба вечером этого же дня, этот день иногда называют первым днём опресноков; но пятнадцатый день вообще-то был первым, и в этот день нельзя было делать никакой рутинной работы. Утром после этого пятнадцатого дня первого месяца – этой субботы – сноп потрясания первых плодов нужно было принести пред Господа, и именно с этого дня – с шестнадцатого дня первого месяца – они должны были отсчитывать пятьдесят дней. Пятидесятый день по счёту, начиная с этого дня, и был Пятидесятницей (Левит 23:10, 11, 15, 16; Второзаконие 16:8, 9). Если мы узнаем, на какой день недели выпадала пасха во время распятия Иисуса, мы можем сказать, на какой день недели выпадала Пятидесятница в том году. Мы знаем, что Спаситель был распят в пятницу (Евангелие от Марка 15:42). Мы знаем, что последующая за этим днём суббота была «субботой согласно заповеди» (Евангелие от Луки 23:54-56), то есть седьмым днём. Соответственно , днём распятия была пятница . Итак , Иисус был распят в пятницу . Это не нуждается ни в каких доказательствах, но должно быть отмечено нами, потому что в день, предшествующий распятию Иисуса ученики подошли к Нему с вопросом: «Где повелишь нам приготовить Тебе пасху? Он сказал: пойдите в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит: время Мое близко; у тебя совершу пасху с учениками Моими. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили пасху» (От Матфея 26:17-19, От Марка 14:12-16; От Луки 22:7- 15). Это было в четверг вечером, в четырнадцатый день месяца, потому что «в четырнадцатый день месяца вечером проводилась пасха Господня» (Левит 23:5; Ex . 12:6). Прямо с пасхального ужина Иисус направился в Гефсиманию, где и был арестован отрядом, который привёл Иуда. После постыдного обращения с Ним со стороны священников, фарисеев и солдат, Он был распят вечером следующего дня, или пятнадцатого дня месяца, или первого дня праздника опресноков. Утро следующего дня было первым днём из пятидесяти дней, отсчитываемых до пятидесятницы.
Следовательно, поскольку день распятия был первым днём праздника опресноков, и выпал на пятницу, пятнадцатый день месяца, а следующий день, шестнадцатый день месяца, выпал на субботу согласно заповеди, и был первым из пятидесяти дней, любой может отсчитать пятьдесят дней и понять для себя, что пятидесятый день, или Пятидесятница в том году выпадала на субботу «по заповеди», или на седьмой день недели.
Итак, день, который защитники святости воскресенья приводят в пример, наделяя его такой святостью на основании дня Пятидесятницы, был вовсе не первым днём недели. Это был седьмой день, тот самый день, который они с таким рвением отвергают. (смотри «Жизнь Христа» автора Джейки, библейский словарь Смита, и высказывания таких людей, как Нэндер, Олхаузен, Дэн Алфорд, Лайтфут, Дженнингс, профессор Хаскетт, Альберт Барнс, и других).
Давайте снова повторим, что мы никак не используем этот факт, заявляя о святости седьмого дня на этом основании. Этому дню с самого начала было дано самое высокое и мощное основание, которое только может дать Бог. После такого основания ничто иное не может дополнить его святость. Мы просто открываем правду из Писаний. Принимая во внимание эту правду, заявления о святости воскресенья, основанные на празднике Пятидесятницы, совершенно безосновательны.
Глава 7
Пример апостолов и самого Христа (Деяния 20:7)
Продолжая свои изыскания в попытке назвать первый день недели днём Господним, автор «вечной субботы» приводит текст из Деяний (20:7). Поскольку этот текст упоминает встречу апостолов в первый день недели, в который апостолы проповедовали, это сделано основанием для заявлений об обычаях ранней церкви, и примером апостолов в соблюдении воскресения в качестве субботы. Но хотя эта встреча и состоялась в первый день недели, и хотя апостолы были на этой встрече, заметьте тот факт, что текст не упоминает ни обычай, ни пример в пользу соблюдения воскресения как субботы.
Вот что мистер Элиот посчитал нужным заявить:
«Самым ярким примером отношения ранних христиан к первому дню недели является текст Деяний (20:7): «В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел… беседовал с ними…» (Деяния 20:7) Язык этого высказывания ясно подразумевает, что апостолы воспользовались случаем, предоставленным обычаем собираться в первый день недели для проповеди народу… В таком случае здесь мы находим ясное свидетельство обычая собираться в первый день недели, спустя не более тридцати лет после воскресения. Язык текста таков, что он может использоваться только в этом случае». (стр. 194, 195) Непросто увидеть здесь то, что видит в данных стихах автор – обычай собираться в первый день недели, тогда как сам текст не говорит ни слова про этот обычай. Во всём приведённом отрывке, частью которого являются данные тексты, мы не находим ни одного упоминания о чём-либо, что бы делалось согласно обычаю, или представлялось как будущий обычай, или пример для христиан в последующее время. Итак, это «ясное свидетельство об обычае», выражаясь словами самого мистера Элиота, не имеет никаких указаний на этот обычай. И даже его утверждение о языке данного отрывка, который должен был использоваться «только в таком случае», не соответствует фактам, ибо когда Лука, писавший эти тексты, имел намерение говорить об обычаях, он делал это прямо и ясно. Например: «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать» (От Луки 4:16). И снова: «Павел, по своему обыкновению, вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний» (Деяния 17:2). В эти двух отрывках слова «по своему обыкновению» в написании Луки идентичны – «ката то еиотос», - и в обоих случаях означают буквально «по своему обычаю»; этот язык вдохновенное слово как раз и использует в подобных случаях, сообщая про обычаи. Поэтому мы видим, что совершенное отсутствие любого такого языка в рассматриваемом нами отрывке, является как раз доказательством того, что данные тексты не являются свидетельствами ничего подобного обычаю христиан собираться в первый день недели.
Если бы данный текст и в самом деле сообщал об обычае собираться в первый день недели, если бы он гласил: «И в первый день недели, когда ученики собрались вместе, по своему обыкновению», как этот же автор обозначал обычай Христа и Павла посещать субботние собрания; если бы данный текст гласил: «И в первый день недели Павел проповедовал ученикам, по своему обыкновению», то в этом случае ни один человек не мог бы отрицать существования такого обычая. Но поскольку слово Божье не даёт нам ни одного слова или даже намёка в этом направлении, ни один человек не имеет права утверждать о таком обычае, не искажая слова Божьего. Это запрещено самим словом Божьим – «не прибавляй к тому и не убавляй от того» (Второзаконие 12:32). Более того, придавать этому отрывку какие-то намёки на обычай собираться в первый день недели, означает не только выходить за пределы написанного; это означает искажать сам язык данных текстов. Значение слова «обычай» таково: «Частое повторение одного и того же действия». Одиночное действие нельзя назвать обычаем . То, что произошло однажды, или дважды – это ещё не обычай. Именно частое повторение какого-то действия является обычаем. Приведённый текст (Деяния 20:7) является единственным упоминанием о том, что религиозное собрание проводилось учениками либо апостолами в первый день недели. И нет никакого упоминании ни на одно повторение этого действия, не говоря уже о частом его повторении. Из этого неизбежно следует, что не существует даже тени правомочности заявления о том, что некие обычаи апостолов или ранней церкви побуждают соблюдать этот день как день покоя и поклонения, субботу. Такого обычая не было.
Мы должны сказать ещё несколько слов об этом отрывке. Для того, чтобы этот отрывок был наиболее понятен читателю, мы приводим его целиком: «В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша, именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный упал вниз с третьего жилья, и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: не тревожьтесь, ибо душа его в нем. Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета, и потом вышел» (Деяния 20:7-11).
Судя по всему этому отрывку, очевидно то, что эта встреча состоялась вечером. Попробуем соединить вместе некоторые детали:
1. «В первый же день недели, когда ученики собрались… В горнице, где мы собрались, было довольно светильников».
2. «Павел… беседовал с ними и продолжил слово до полуночи».
3. В полночь Евтих выпал из окна, и Павел спустился, чтобы вернуть его. Затем он преломил хлеб и ел. Поэтому мы и читаем, что ученики собрались «для преломления хлеба». После полуночи это преломление состоялось.
4. После этого Павел говорил ещё долгое время, даже до рассвета, а затем отправился. Поэтому мы можем прочесть данный текст так: «В первый день недели ученики собрались вместе, и там, где они собрались, было много светильников. Они собрались для преломления хлеба, и после полуночи они преломили хлеб. Павел проповедовал им до полуночи, и даже до рассвета. Когда ученики собрались, Павел был готов отправиться утром, и после того, как он говорил с ними долгое время, даже до рассвета, он отправился». Нет никаких сомнений в том, что встреча, о которой говорится в данном тексте, была вечерне- ночной встречей. Более того, эта встреча продолжалась всю ночь. Следовательно, эта встреча состоялась вечером первого дня недели. Здесь возникает вопрос: Согласно Библии, какой частью дня является вечер – началом дня или концом дня? Библия ясно говорит, что вечер всегда является началом суток. Перед тем, как на земле появился свет, на ней была тьма. Когда Бог создавал землю, тьма была по всему лицу земли. И тогда Бог сказал : « Да будет свет ». И стал свет . Затем Бог назвал свет днём, а тьму Он назвал ночью. Поскольку тьма была названа ночью, и поскольку тьма была на земле перед появлением света, и поскольку целые сутки составляют как ночь, так и день, - как тьму, так и свет, - из этого следует, что в подлинном отсчёте суток, с самого начала творения, ночь предшествует дню. Об этом и говорится в Писании: «Вечер и утро были первым днём». Таков порядок, установленный Богом в начале мира. Таков порядок, открытый в самом начале слова Божьего. Таков порядок, который прослеживается по всей книге книг. В книге Левит (23:27-32), давая распоряжения относительно дня искупления, Бог сказал, что это должен быть десятый день седьмого месяца, и что начинаться он должен с вечера девятого дня этого месяца. «С вечера до вечера празднуйте субботы ваши». Таким образом, десятый день месяца начинался вечером девятого дня месяца. Поэтому, согласно Библии, время суток начинается с вечера, а вечер начинается с захода солнца (Второзаконие 16:6). Следовательно, поскольку упомянутая встреча (Деяния 20:7-11) была вечером первого дня недели, а в слове Божьем, в порядке Божьем вечер – это всегда начало суток, из этого следует, что встреча эта была в то время суток, которое сегодня мы назвали бы «вечером в субботу». Ибо если бы это было время, называемое сегодня «вечером в воскресенье», то это был бы уже второй день недели, а не первый. Так, авторы Конибер и Хоусон, в труде «Жизнь и послания Павла», говорят, что это был вечер, который начинался после иудейской субботы. А сегодня этот вечер мы называем «вечером в субботу».
Следовательно, эта встреча, будучи встречей в тот вечер, который сегодня мы называем «субботним вечером», и Павел проповедовал до полуночи, а после преломления хлеба продолжал говорить до утра, а затем отправился, из этого следует, что началом этого дня было ничто иное, как начало первого дня недели, началом воскресенья, в которое Павел начал свой путь из Троады в Асс длиной в двадцать миль. Этот переход он предпринял с целью попасть на борт корабля в Ассе, чтобы продолжить своё путешествие. Ибо текст гласит: «Мы (попутчики Павла в его путешествии (Деяния 20:4)) пошли вперед на корабль и поплыли в Асс, чтобы взять оттуда Павла; ибо он так приказал нам, намереваясь сам идти пешком. Когда же он сошелся с нами в Ассе, то, взяв его, мы прибыли в Митилину» (Деяния 20:13,14). Павел не только шёл пешком из Троады в Асс в воскресенье, но он повелел своим попутчикам плыть туда же – около сорока миль по воде – и быть там ко времени его прихода, чтобы они могли продолжить путь незамедлительно. И когда они достигли Асса, он сразу взошёл на борт корабля и поплыл в Митилину, которая была на расстоянии сорока миль. Это значит, что в первый день недели Павел прошёл двадцать миль, а затем плыл на корабле ещё около сорока миль, что в общей сложности составляет шестьдесят миль. И он назначил своих попутчиков – Луку, Тимофея, Тихика, Трофима, Гайя, Аристарха, и Секундуса – чтобы они проплыли сорок миль, а затем взяли его на борт, и плыли ещё сорок миль, что составляло для них около восьмидесяти миль пути, и всё это в воскресенье. Вот как эти христиане соблюдали первый день недели, о котором сказано в 20-й главе книги Деяний! Но сегодня люди пытаются доказать, что путешествовать в воскресенье – страшный грех. Да, некоторые даже считают, что если корабль отходит в воскресенье, то этот грех будет таким великим, что ничто кроме чуда совершенной благодати Божьей не спасет их от кораблекрушения. Павел так не думал и не поступал, как свидетельствует Библия. Он отправился на корабль, и отплыл. Ибо так он сам решил. Павел и его попутчики считали воскресенье обычным днём, ничем не отличающимся от остальных рабочих дней недели. Заметьте, что в первый день недели они поплыли из Троады в Митилину, на следующий день они поплыли из Митилины в Хиос, а на следующий день – из Хиоса в Самос и Трогиллий, а на следующий – в Милит. Вот что мы читаем о первом дне неделе, и о следующем дне, и о следующем дне, и о следующем дне. Павел вместе со своими попутчиками делал одно и то же во все эти дни. Они не считали ни один из этих дней выше или более святым, чем остальные. Они считали первый день недели не более святым, чем следующий, или следующий, или следующий. Да, правда, что Павел проповедовал всю ночь, перед тем, как отправиться в первый день недели. Но в пятый или шестой день недели он тоже проповедовал в Милите старейшинам церкви Ефеса.
Следовательно, мы видим, как воскресенье, вместо того, чтобы обретать какую-то святость из слова Божьего, или показывать повод для его соблюдения на основании этого слова, или на основании здравого смысла, или на примере апостолов, или на обычаях ранней церкви, наоборот, отметает все эти доводы. Святость воскресенья – незваный гость. Она основывает свою так называемую святость или отделённость исключительно на заповедях человеческих.
Из всех аргументов, выдвинутых в поддержку первого дня недели как субботы, дня Господнего, один является наиболее утончённым из всех, а значит и самым коварным. Этот аргумент основывается якобы на примере апостолов, или ранних христиан. Мы желаем немного вникнуть в этот вопрос, чтобы понять, насколько этот аргумент состоятелен сам по себе.
Пример апостолов. Что это такое ? Если эта фраза и несёт какое-то значение, то она означает, что пример апостолов является неким стандартом человеческого долга в нравственной сфере. Но если бы это было так, то этот же пример апостолов был бы стандартом и в любой другой сфере и вопросах, а не только в предполагаемом вопросе соблюдения первого дня недели. Но никому даже и в голову не приходило ссылаться на такое нравственное основание, как пример апостолов в любом нравственном вопросе, кроме разве что этого надуманного вопроса соблюдения первого дня недели в качестве священного дня. С помощью этого аргумента, даже те, кто заявляет о некоем примере апостолов, в сущности, сами опровергают аргумент, выдвинутый ими. Разве кто-либо когда-нибудь думал о примере апостолов в своём обязательстве исполнять одну из заповедей десятисловия? Возьмите, к примеру, первую заповедь: «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим». Разве кто- либо прибегал к примеру апостолов, чтобы убедить людей соблюдать эту заповедь? Что можно подумать о человеке, который будет так поступать? Эта заповедь является выражением воли самого Бога, и основание этой заповеди настолько выше примера апостолов, насколько небо выше земли, и насколько Бог выше человека. Более того, обязательство соблюдать эту заповедь лежала на апостолах в такой же степени, в которой оно лежит на всех остальных.
То же самое можно сказать о каждой заповеди декалога, и о каждом обязательстве любой из этих заповедей. Кому придёт в голову говорить своим детям об их обязательстве почитать своих родителей, показывая им пример апостолов? Обязанность почитать родителей основывается на гораздо более величественном основании, чем пример апостолов – на воле самого Бога. И основывать это обязательство в умах детей на примере апостолов означает уводить их от Бога, и упразднять всякую значимость этой обязанности в их душе. Этот же принцип применим к каждой нравственной обязанности декалога. Апостолы были слугами, а не господами нравственных обязанностей человека. Моральные обязательства даны нам самим Богом, а не примерами людей; и понимание этих обязательств исходит исключительно из заповедей Божьих, а не из действий людей. Всё это показывает нам, что в вопросе нравственных обязательств не существует такого основания, как пример апостолов. Об этом говорят и другие факты. И каждый из них ещё полнее доказывает это.
Закон Божий – десять заповедей – это наивысший стандарт нравственности во вселенной, и поэтому во всей полноте выражает нравственные обязательства человека. Этот закон совершенен, и требует совершенства у всех, кто находится в его подчинении. Поэтому всякий, кто может быть примером для людей в требованиях закона Божьего, то есть, в любых нравственных обязательствах, должен быть совершенным. Более того, всякий человек, поставленный примером людям в нравственных обязательствах, должен быть не просто совершенным, а совершенным всегда. Он должен быть всегда в совершенном исполнении требований закона Божьего. Но ни один человек в мире ещё не проявлял такого послушания. Ибо все согрешили , и лишены славы Божьей . Все ушли с пути . Совершенство закона Божьего никогда ещё не проявлялось в жизни ни одного человека, живущего в мире. Поэтому ни один человек, живущий в мире, никогда не может быть примером для людей в вопросе нравственных обязательств. Следовательно, в мире не существует, да и не может быть такого явления, как пример апостолов в сфере нравственных обязательств. Для многих это может показаться слишком строгим высказыванием, потому что апостолы были вдохновенными Богом людьми. Мы не лишаем апостолов ни одной йоты их божественного вдохновения, и не оспариваем уважение к этим людям как к вдохновенным служителям. Но мы говорим без тени сомнения, что, хотя апостолы и были воистину вдохновлены, они не являются примером для людей в сфере нравственных обязательств. Потому, что, во- первых, никакая степень вдохновения никогда не способна превознести человека выше закона Божьего, а во-вторых, хотя мы знаем, что учение и писания апостолов вдохновлены Богом, тем не менее, мы знаем также, что не все их поступки были таковыми. Об этом нам говорит вдохновенное слово. Вот, к примеру, вдохновенное свидетельство по этому поводу: «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо, до прибытия некоторых от Иакова, ел вместе с язычниками; а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие Иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине Евангельской, то сказал Петру при всех…» (К Галатам 2:11-14) Пётр подвергался нареканию. Он поступал не в согласии с истиной евангельской. Так каким же был в этом случае его апостольский пример, и куда бы он завёл тех, кто последовал бы ему? Эти люди погрязли бы в двуличии, лицемерии, притворстве. Таким образом, они бы отдалились от истины евангельской. Но они могли опираться на апостольский пример, и этот пример был дан двумя апостолами, – Петром и Варнавой – которые лично были с ними. Но Бог не допустил этого. Он обличил грех апостолов, исправил их ошибку, и вернул их из жалкого состояния к праведности и соответствию истине евангельской. И данное свидетельство слова Божьего показывает всем людям, что не существует такого основания, как пример апостолов, которому нужно следовать. Истина евангелия и слово Божье представляют собой то основание, на которое все люди должны опираться.
Ещё один случай, в который даже Павел был вовлечён: «По некотором времени Павел сказал Варнаве: пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедали слово Господне, как они живут. Варнава хотел взять с собою Иоанна, называемого Марком. Но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом» (Деяния 15:36-39). Разногласие между ними было очень острым. Можно ли это назвать примером апостолов, которому должны следовать все люди? Любой сразу скажет : « Нет ». Но почему нет ? Потому что это не правильно . Этот пример неподобающий. Но когда мы называем этот пример неподобающим, мы этими же словами объявляем о существовании некоего стандарта, с которым и сами апостолы должны сравниваться, а их пример – сверяться. Это ещё раз убеждает нас в том, что не существует такого явления, как пример апостолов.
Мы приводим эти тексты не для того, чтобы принижать апостолов, или подвергать сомнению их христианскую жизнь. Они были такими же людьми, что и все мы, и были подвержены таким же недостаткам, как и все остальные. Они имели слабости, нуждались в укреплении божественной благодатью, имели недостатки характера, и нуждались в победе с помощью Божьей. Они должны были совершать добрый подвиг веры, точно так же, как и все мы. И они шли этим путём, и становились в конечном итоге победителями в Том, кто возлюбил их, как и нас, и омыл нас всех от наших грехов кровью Своею. Не дай нам Бог приводить эти примеры для того, чтобы принижать апостолов; мы просто цитируем слово, данное самим Богом этим же апостолам, чтобы показать людям: Если вы желаете быть совершенными, вы должны опираться на более надёжное основание, чем пример апостолов. Этими свидетельствами из слова Божьего мы должны показывать людям, что, имея дело с проблемой человеческого обязательства перед совершенным законом Божьим, эту проблему мы должны решать на фоне незыблемого примера. Мы говорим об этом не потому, что мы любим апостолов меньше, чем Иисуса Христа. Дело в том, что сами апостолы нам говорят об этом же самом. Спросите у самих апостолов: «Должны ли мы следовать вашему примеру?» Пётр отвечает на этот вопрос: «Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его» (1-е Петра 2:21,22). Может быть Павел желает быть для нас примером? Он тоже говорит: «Подражайте мне, как я Христу» (1-е Коринфянам 1:11). Может быть Иоанн, как любимый ученик Христа, желал, чтобы мы следовали его примеру? Он тоже отвечает: «Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал» (1-е Иоанна 2:6).
Следовательно, поскольку сами апостолы отвергали всякие притязания на «апостольский пример», из этого следует, что не существует такого явления, как «пример апостолов». Иисус Христос – единственный пример для людей. И Он велит абсолютно каждому человеку: «Следуй за Мной. Возьми иго Моё на себя и научись от Меня . Я есмь дверь . Всякий, входящий не дверью, а иным путём (например, через дверь некоего «примера апостолов»), есть вор и разбойник. Только тот, кто входит через Меня, будет спасён». Господь Иисус – единственная персона из всех, которых видел наш мир, которая в совершенстве выполнила всякое требование совершенного закона Божьего. Он стал плотью, и в этой плоти, в природе человеческой, Он встретился со всеми искушениями, которые только человек может когда-либо встретить, и во всех этих искушениях Он удовлетворил все требования совершенного закона Божьего. И Он делал это с самого младенчества, и до самого конца, и никогда не терпел поражения. Он был искушён во всём подобно нам, но без согрешения. Поэтому, поскольку Он является тем единственным Человеком, который в этом мире когда-либо исполнил совершенные требования закона Божьего, из этого следует, что только Он может быть тем единственным Человеком, который достоин того, чтобы быть примером для людей. Только Его примеру должен следовать человек. Поэтому, когда проповедники и лидеры богословских движений представляют перед людьми какой- либо другой пример, даже если это будет пример самих апостолов, и пытаются склонить кого-либо следовать любому другому примеру кроме примера самого Господа, такое поведение будет грехом против Бога, и предательством по отношению к нашему Господу Иисусу Христу. И тот факт, что сегодня многие, даже из числа протестантов, поступают именно так, показывает, насколько далеко от Христа могут отойти религиозные учителя наших дней. Пора бы им и всем людям убедиться в том, что закон Божий представляет собой единственное совершенное обязательство, данное человеку; и что Господь Иисус Христос является единственным совершенным примером совершенного исполнения этого обязательства; и что все люди, желающие решения проблемы своей вечной судьбы, должны решать её на условиях этого единственного обязательства, которое было исполнено в жизни этого единственного Примера. Всякий, кто пытается решить эту проблему любым другим путём, или в соответствии с любым другим примером, никогда не придёт к верному решению; всякий, призывающий людей пытаться решить её любым другим способом или согласно любому другому примеру, пусть даже по примеру самих апостолов, на самом деле призывает к предательству Господа Иисуса Христа.
Каков же пример Христа в отношении соблюдения первого дня недели? Никакого подобного примера просто не существует. Он никогда не соблюдал первый день недели. Никто и никогда не сможет (и даже никто и не пытается) сослаться на пример Иисуса в соблюдении первого дня недели. Но там, где не существует примера самого Иисуса Христа, там не может быть никакого примера апостолов. По этой причине не существует и не может быть никакого примера апостолов в соблюдении первого дня недели.
Каков же пример Иисуса в отношении соблюдении седьмого дня? – Он покоился уже в самую первую субботу, сразу же после завершения Своего великого дела сотворения мира. Когда же Он пришёл в наш мир Младенцем, все знают, что Он соблюдал именно этот день всю Свою жизнь на земле. И всякий, говорящий, что пребывает в Нём, должен поступать так же, как и Господь поступал. Поэтому все, кто поступает так, как Он поступал, будут соблюдать седьмой день. Его стопы всегда вели Его к месту поклонения Богу в седьмой день, ибо таково было Его обыкновение (Евангелие от Луки 4:16), и Он учил народ, как необходимо соблюдать седьмой день, субботу Господню ( Евангелие от Матфея 12:1-12). Он оставил нам пример , чтобы нам идти по следам Его . И все, идущие по следам Его, будут идти по этим следам к соблюдению седьмого дня, и хранить свой путь от поддельной субботы, ибо таков Его пример.
Павел писал: «Подражайте мне, как я Христу». Был ли Павел последователем Христа в вопросе седьмого дня? О Христе написано: «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать» (От Луки 4:16). О Павле этим же автором написано: «Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была Иудейская синагога. Павел, по своему обыкновению, вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний» (Деяния 17:1,2). Павел следовал за Христом в своём «обыкновении» соблюдать седьмой день, субботу, поэтому любой человек, желающий быть послушным слову Божьему, открытому через Павла, и желающий подражать Павлу, как тот подражал Христу, будет иметь обыкновение отправляться в дом Божий и поклоняться Богу именно в седьмой день.
К соблюдению седьмого дня нас призывает и заповедь Божья, и пример живого Бога (Исход 20:8-11; Бытие 23), и пример самого Господа Иисуса Христа, и притом как на небесах, так и на земле, - как Творца, так и Искупителя. Но мы не находим ни заповеди, ни примера, ни повеления соблюдать любой другой день. Будете ли вы послушны заповеди Божьей, и следовать божественному примеру в божественном повелении, или вместо этого вы будете повиноваться заповедям человеческим, и следовать человеческим примерам в человеческой религии, и при этом ожидать божественного одобрения? Ответьте для себя на этот вопрос так, как если бы вы уже находились на Божьем суде.
1-е послание Коринфянам, 16:2
Следующий текст, приведённый мистером Элиотом – из первого послания к коринфянам (16:1,2). Об этом тексте автор пишет:
«Ещё один случайный намёк на религиозное использование этого дня – намёк не менее важный, несмотря на свою случайность – это наставление Павла в 1-м послании к коринфянам (16:1,2): «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах Галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду». Коринфяне должны были в этот день приносить пожертвования в общую сокровищницу» (стр. 195, 196).
Павел пишет: «Пусть каждый из вас откладывает у себя и сберегает»; мистер Элиот говорит, что они должны были приносить свои пожертвования в общую сокровищницу. Как же может человек «откладывать у себя и сберегать», и в это же время «приносить в общую сокровищницу» эти же деньги? Если это возможно, особенно для тех, кто соблюдает воскресенье, и считает, что это вполне выполнимо, пусть они попробуют это сделать. На следующее воскресенье, перед тем, как идти в собрание, посчитайте полученный от Бога прибыток, и отделите соответствующую сумму денег, которую вы «отложите у себя», отдавая её в общую сокровищницу церкви. Затем, придя в церковь, возьмите эти деньги с собой, и когда мимо вас будут проносить ящик сбора пожертвований, положите в него то, что вы должны были «отложить у себя» в первый день недели, и дело сделано! Согласно идее мистера Элиота, вы исполнили данное наставление. И исполнили вы его, отдавая то, что Писание велит вам «отложить у себя». Вы отдали в руки других то, что должно было оставаться при вас. Вы поручили под полный контроль других то, что вы уже никогда не увидите, а между тем Писание призывает отложить это у себя. Другими словами, вы исполнили Писание, нарушив его.
Воистину, это какой-то новый вид послушания; однако не стоит удивляться такому виду послушания, ибо только такой вид послушания Писанию может быть оказан со стороны соблюдающих воскресенье в качестве субботы. Заповедь Божья гласит: «Помни день субботний, чтобы свято хранить его…» Субботний день – это седьмой день. Но эти люди предлагают соблюдать эту заповедь, покоясь в первый день вместо седьмого. Слово Божье говорит: «Седьмой день – суббота Господу Богу твоему, в оный не делай никакого дела…», а эти люди соблюдают воскресенье, и предлагают исполнить это слово, работая весь этот день, в который Бог запрещает это делать. Поэтому такое «послушание», предложенное мистером Элиотом в его толковании данного текста (1-го Коринфянам 16:2) совершенно согласуется с принципами «воскресной субботы», с принципами соблюдения слова Божьего путём нарушения того, что в нём сказано.
Но автор пытается оправдать свою теорию последующим примечанием:
«То, что это «откладывание у себя» не означает просто откладывание этих даров каждым верующим в своём доме, ясно показано объяснением, следующим далее: «Дабы не делать сборов» (то есть, сборов этих пожертвований; это же слово используется в первом стихе) «когда я приду»… Если бы эти дары собирались из дома в дом, то сама цель указания апостола осталась бы не достигнутой».
Этот аргумент был бы весьма сильным, если бы он был истинным. Но он не истинен. Мы знаем об этом, потому что Павел сам сообщает нам, что он имеет ввиду, и сообщает нам то, что коринфяне поняли его правильно; версия же мистера Элиота переворачивает наизнанку записанные Павлом факты. Спустя год после написания первого послания к коринфянам, Павел написал им второе письмо; во втором письме он подробно упоминает этот первый «сбор святых», о котором он давал распоряжения в первом письме. Во втором письме (глава 9, стихи 1-5) Павел пишет: «Для меня впрочем излишне писать вам о вспоможении святым, ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед Македонянами, что Ахаия приготовлена еще с прошедшего года; и ревность ваша поощрила многих. Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетною в сем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены, [и] чтобы, когда придут со мною Македоняне и найдут вас неготовыми, не остались в стыде мы, - не говорю "вы", - похвалившись с такою уверенностью. Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово, как благословение, а не как побор» (2-е Коринфянам 9:1-5).
Если бы теория мистера Элиота была верна, и коринфяне должны были собирать свои пожертвования в общую сокровищницу каждый первый день недели, если бы именно это имел ввиду Павел в своём распоряжении, тогда зачем Павел посчитал нужным послать братьев перед собой, чтобы собрать эти дары, и чтобы «возвещенное благословение было готово», когда он придёт? Если теория мистера Элиота верна, то в чём была опасность того, что эти братья найдут коринфян неготовыми? Почему Павел заботился об их приготовлении? Теория мистера Элиота противоречит фактам. В первом письме коринфянам (16:2) Павел имел ввиду именно то, что сказал – что в первый день недели каждому следует «откладывать у себя и сберегать» свои пожертвования, и христиане Коринфа поняли его верно. Так должны были понять его и все остальные, если бы не было этого вопиющего искажения Библии в угоду поддержки «воскресного дня Господня». Однако коринфяне, не имея никаких намерений искажать эти слова или извращать свою способность понимать прямые высказывания, восприняли их так, как они были написаны, чего и желал Павел. Каждый из них откладывал эти дары у себя, как было сказано; затем, когда настало время для Павла пройти мимо них, и передать их дары в Иерусалим, он послал братьев перед собой, чтобы они приготовили эти дары, которые были отложены ими «у себя», чтобы эти дары были готовы во время его прихода. Поэтому текст 1-го послания коринфянам (16:2) не имеет никакого намёка на идею религиозных собраний в первый день недели.
Теперь, после всех своих изысканий в поисках происхождения первого дня недели как дня Господнего, мистер Элиот приходит к следующему чрезвычайно логическому выводу: «Выбор дня Господнего апостолами в качестве одного из праздничных дней нового общества кажется настолько естественным, и даже необходимым, что когда мы добавляем к этим открытиям факт о том, что он для этого и использовался, мы уже не можем отрицать религиозное назначение воскресенья авторитетом апостолов» (стр. 198).
Всё, что мы можем на это ответить – назвать это лучшей иллюстрацией следующего принципа, применяющегося почтенным доктором Левием Филетусом Добсом, и доктором Уэйлендом, редактором «Национального баптиста»: принципа доказательства чего-либо, не имея никаких оснований для своих доказательств. По правде сказать, мы уже не надеялись встретить в реальной жизни иллюстрацию этого принципа, но мистер Элиот с его логикой стоимостью в пятьсот долларов предоставил нам совершенную иллюстрацию этого правила. Суть его такова: Создавай и доказывай предпосылки, исходя из вывода, а затем, опираясь на эти предпосылки, доказывай с их помощью сам вывод; или докажи А с помощью Б, а затем докажи Б с помощью А. Если же люди при этом уже верят в ваш вывод (или думают, что верят в него, что одно и то же), и если вы время от времени будете применять их любимые слова и фразы, которые все люди желают слышать; и если эти слова и фразы будут выражать общепринятые нормы, вы даже не в силах представить себе, какую репутацию логичного оратора вы можете заслужить.
Если бы доктор Доббс предложил пятьсот долларов в качестве приза за лучший пример и воплощение этого логического принципа, мы бы без сомнения отдали бы свой голос в пользу почтенного Джорджа Элиота и его «Вечной субботы» как самого достойного кандидата на этот приз.
Однако вместе с этим он признаёт полное молчание Нового Завета в отношении конкретного повеления о соблюдении воскресенья или конкретных наставлениях по поводу его почитания. Удивительно! Он же называет воскресенье детищем Нового Завета, и при этом признаёт, что в Новом Завете не существует заповеди или правил его соблюдения! Как же можно при этом верить в то, что кто-либо находится под обязательством соблюдать этот день? Как же можно кому-либо соблюдать этот день, без всяких правил его соблюдения? Мы сейчас увидим, как автор решает эту диллему.
Глава 8
Заповедь о соблюдении воскресенья
Хотя автор «Вечной субботы» говорит об абсолютном молчании Нового Завета в отношении какой-либо заповеди или правила о соблюдении первого дня недели, всё же он настаивает на том, что «воскресная суббота» утверждена на апостольской традиции, и что религиозное использование воскресенья имеет высокую печать апостольского авторитета, и основывается не только на примере апостолов, но и на их ясных наставлениях – таких ясных, что их невозможно понять по- другому. Так, он пишет:
«Проповедники евангелия о воскресении, основатели церкви воскресения, они (апостолы) придали новый, священный характер этому дню воскресения своим собственным примером и своими подробными предписаниями» (стр. 198).
Что же такое предписание? Это некое распоряжение, повеление, заповедь, наставление. Наставлять означает передавать распоряжение, или заповедь, повелевать к неким действиям, направлять на основании авторитета. Это слово имеет значение обязательного повеления . Оно также несёт значимость заповеди . Слово «Подробные» обозначает нечто такое, что сказано самым ясным языком, так что не может быть неверно истолковано. Такое объяснение применённым словам даёт словарь Вебстера. Следовательно, «подробные предписания» - это заповеди, которые высказаны таким ясным языком, что они не могут быть неверно истолкованы. Поэтому мистер Элиот этими словами заявляет, что апостолы посредством самых ясных заповедей придали священный характер воскресному дню. Но всякий, читавший Новый Завет, убедится в том, что это не так. В этом же убедился и сам мистер Элиот; ибо, как уже цитировалось, на странице 184-й он ясно признаёт и исповедует полное молчание Нового Завета относительно ясной заповеди о «субботе» или определённых наставлений о её соблюдении. Под словом «суббота» он, конечно же, имеет ввиду воскресенье, потому что он немедленно начинает говорить об этом молчании, и объяснять его. Но, зная, и исповедуя полное молчание Нового Завета относительно любых «подробных наставлений» о соблюдении первого дня недели, невозможно представить себе, какими аргументами, совместимыми с честностью и последовательностью, он смог через пятнадцать страниц доказать вывод о том, что апостолы придали священный характер дню воскресения своим собственным примером и своими «подробными предписаниями». Сравните сказанное на страницах 184 и 198.
И такими «доказательствами» воскресенье объявляется днём Господним и «христианской субботой»! Именно эти выводы профессор Уильям Томпсон, профессор Левелин Прэтт, и почтенный Джордж Стоун (все они из Хартфорда, штат Коннектикут), после тщательной и подробной проверки сочли достойными приза в пятьсот долларов.
Именно этим выводам общество «Америкен тракт» поставило печать своего одобрения; именно эти выводы «Женский союз христианского воздержания» называет «книгой по вопросу субботы, которая по крайней мере должна присутствовать в каждом районе, в каждой воскресной школе, и в каждой публичной библиотеке».
Но, хотя автор признаёт это полное молчание, он без всякого труда уживается с ним. И вот как он это делает: «Не трудно понять полное молчание Нового Завета по поводу любой подробной заповеди о («христианской») субботе или конкретных правил её соблюдения… Условия существования христианской церкви были далеко не в пользу этих правил… Ранняя церковь, будучи подавляющим меньшинством, состоящим из бедных людей, не могла объявить о христианской субботе в её полном смысле и значении. Правящее влияние властей и общества были против них» (стр. 184 ) .
Поэтому, согласно этому христианству, ценой в пятьсот долларов, заповеди о соблюдении христианского долга могут объявляться только когда условия жизни церкви благоприятствуют этим заявлениям; то есть, когда правящие государство и общество всё это одобряют. А одно из величайших отличительных особенностей христианства, оказывается, зависит от влияния властей и общества, в вопросе проповеди о своей ценности и значимости! Христиане, оказывается, должны исповедовать свою веру только тогда, когда большинство людей это одобряет! Мы признаём, что такое учение воистину является подлинным учением о «воскресной субботе». Мы часто слышим об этом. И мы знаем, что именно на этом учении и основаны их притязания на признание христиан. Но разве такое учение Христос принёс в мир ? Разве такую религию Он проповедовал в этом мире? Разве о такой христианской жизни и поведении Он говорил словами: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их»? Неужели Иисус призывал Своих учеников к верности и угождению правящим властям и обществу, говоря им: «Предаст же брат брата на смерть, и отец - сына; и восстанут дети на родителей, и умертвят их; и будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется»? Неужели Он призывал раннюю церковь ждать разрешения большинства и одобрения властей и общества, давая ей заповедь: «Что говорю вам в темноте, говорите при свете; и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне»? Факт заключается в том, что аргумент мистера Элиота по поводу полного молчания Нового Завета в отношении заповедей о соблюдении воскресенья, и самого воскресенья как дня поклонения, противоречит всем принципам учения Христова.
Но когда же, согласно представлению мистера Элиота о христианском долге и верности, «христианская суббота» была учреждена в «полном смысле этого слова»? Он сообщает нам об этом просто и ясно. Послушаем его самого: «Для совершенного утверждения христианской субботы, как уже соблюдаемого постановления, была необходима социальная революция в Римской империи. Ранняя церковь, в своей борьбе, преследованиях и гонениях, и сама не имела возможности в совершенстве соблюдать день Господень, не говоря уже о том, чтобы святость этого дня была защищена от осквернения неверующими. Поэтому нам стоит ожидать того момента в истории, когда данное постановление глубоко укоренится в обществе и его устоях, и станет хорошо понятым обрядом в тот момент, когда христианство станет доминирующей властью. Об этом в точности и свидетельствуют исторические факты. В сведениях о ранней церкви и трудах христианских отцов мы можем проследить рост этого установления, достигший своей кульминации в знаменитом указе Константина, когда христианство стало официальной религией этой империи» (стр. 213) Поскольку не существовало никакой заповеди о соблюдении воскресенья, и этот день не соблюдался и не мог соблюдаться истинным гонимым меньшинством, составляющим раннюю христианскую церковь, то глубокое укоренение в обществе и его устоях, внедрившее данное установление, могло быть достигнуто только теми силами, которые не входили в это гонимое меньшинство, то есть большинством. И это действительно так . Большинством были язычники .
Поклонение солнцу было главным признаком всех язычников. И когда тщеславные епископы, в своей жажде власти, большого числа прихожан, и большом влиянии на правительство и общество, открыли путь для язычников, принимая их в церковь вместе с их языческими обычаями и обрядами, тогда день солнца, будучи главным фундаментом язычества, получил своё место в церкви под христианской маской, и таким образом продолжал укореняться в обществе и его устоях, пока не был узаконен знаменитым указом Константина в честь досточтимого солнца, обязывающим к его частичному соблюдению. Об этом известном указе мы позволим самому автору «Вечной субботы» сказать нам следующее: «Император Константин был обращён, и христианство стало, практически, религией империи. Теперь можно было узаконить христианскую субботу и сделать её соблюдение повсеместным. Поэтому в 321-м году был издан известный указ Константина, запрещающий повседневный труд по воскресеньям. Таков полный текст этого указа:
«Император Константин Елфидиусу: В досточтимый день солнца пусть служащие и народ, живущие в городах, покоятся, и пусть все мастерские будут закрыты. Однако, в деревнях, занятые обрабатыванием земли могут свободно и законно работать, потому что часто бывает, что другой день не так хорошо подходит для посева зерна и посадки лозы; чтобы из-за потери лучшего времени щедрость, даруемая небесами, не была потеряна. Указ издан седьмого марта, на втором совете Криспа и Константина» (стр. 228).
Человек, заметивший в жизни Константина какой-либо признак его истинного обращения, обладает поистине изумительной проницательностью, равной, пожалуй, такой прозорливости, которая может распознать нечто микроскопическое там, где всё остальное говорит об обратном. Один указ Константина, с которым главным образом и связывается идея о его обращении, был издан в марте 313-го года, спустя восемь лет после самого первого свидетельства о его обращении. Это свидетельство было так называемым указом Милана, великим актом примирения, который признал за каждым жителем римской империи право избирать и исповедовать любую религию. Этот указ и прекратил преследования христиан. Но даже этот единственный указ, с которым связывают идею о его обращении, был отменён этим же обратившимся императором, ибо вскоре после своего обращения он упразднил этот указ. Мы здесь перечислим некоторые из его главных указов после его так называемого обращения:
7 марта 321 года он издал указ в честь достопочтимого дня солнца.
На следующий же день, 8 марта 321-го года он издал указ, обязывающий советоваться с предсказателями. В 323-м году Лициний был казнён по его распоряжению, вопреки его торжественной клятве, данной своей собственной сестре Констанции. В 325- м году он созвал и председательствовал на совете в Ницце.В 326-м году он запятнал себя виной в убийстве своего собственного сына, Криспа, своего племянника Лициния, и его жены Фаусты, и целого ряда других людей. В 328-м году он основал Константинополь в соответствии с древним ритуалом римского язычества, а в 330-м году этот город был посвящён Деве Марии. Впоследствии он поставил в этом же городе идолы языческих богов – Минервы, Цибела, Амфитрита, Пэна, а также жертвенный трипод Аполлона – и ни один из этих идолов, представленный разными группами, не удостаивался более высокой чести, чем жертвенник Аполлона. Но, как будто желая предоставить всему миру самое веское доказательство своей языческой принадлежности, он возвёл обелиск высотой более ста двадцати футов, на вершине которого он осмелился поставить изображение, на котором он попытался соединить вместе образы солнца, Христа и самого себя» (Мильман. История христианства . Том 3- й , глава 3- я , параграф 7- й ).
До самого конца своей жизни он продолжал печатать образ Аполлона на одной стороне своих императорских монет, а имя Христа – на другой. Ввиду этих фактов мы имеем полное право усомниться в том, был ли он обращён в христианство вообще. Самым вопиющим сомнением будет вопрос о совместимости христианских принципов с жизнью, состоящей главным образом из языческих обычаев, и запятнанной таким количеством крови.
Оставив тему обращения Константина, вспомним аргумент мистера Элиота о том, что влияние правительства и общества должно быть одним из главных условий для полного освящения «христианской субботы», и для этого освящения необходимо было ждать почти триста лет, чтобы дождаться указа этого человека. Более того, указ этот был издан не в честь дня Господнего, не в честь «христианской субботы», и даже не в честь Христа, а в честь «досточтимого дня солнца». Именно этот указ должен был узаконить «христианскую субботу», обязать к её частичному соблюдению, то есть, к соблюдению только городскими жителями и ремесленниками, в то время как сельские труженики могли свободно работать. Так или иначе, нам не нужно добавлять никаких комментариев о природе этого указа. Автор «Вечной субботы» раскрывает его суть настолько полно, что мы позволим ему самому сделать это. Он говорит: «Чтобы полностью понять причины этого указа, необходимо принять во внимание особое положение, в котором оказался Константин. Он и сам не был свободен от всех остатков языческих суеверий. Кажется несомненным, что перед своим обращением он был особенно посвящён поклонению Аполлону, богу солнца… Задача, стоявшая перед ним, состояла в том, чтобы издавать законы в пользу новой веры таким способом, чтобы это не противоречило полностью с его старыми языческими практикам, и не шло вразрез с предубеждениями его подчинённых- язычников. Эти факты объясняют все детали этого указа. Он называет святой день не днём Господним, а «днём солнца», указывая на его языческое предназначение, и таким образом сразу же связывает его со своим прежним поклонением Аполлону. Он исключает деревенских жителей из юрисдикции этого указа, и таким образом избегает столкновений с подчинёнными ему язычниками» (стр. 229).
Поскольку он был особенно сильно посвящён поклонению Аполлону, богу солнца, он и сформулировал свой указ таким образом, чтобы не показаться чуждым своим прежним языческим практикам, и не конфликтовать с предубеждениями подчинённых ему язычников, этот указ наделяет воскресный день языческими чертами, и таким образом связывает его с его прежним поклонением Аполлону. Поскольку таким образом он избегает столкновений с подчинёнными ему язычниками, то мы хотели бы знать, где же в этом указе присутствует хоть один намёк на подчинённых ему христиан? Другими словами, если бы он намеревался издать указ в угоду и на пользу исключительно подчинённых ему язычников, чтобы распространять языческие практики, разве он мог сформулировать декрет более удачный, чем прочитанный нами? Это просто невозможно. Поэтому примечания мистера Элиота демонстрируют нам, что этот знаменитый указ Константина был издан исключительно в пользу язычников, повелевая соблюдать языческий день, воскресенье, в честь великого языческого бога, бога солнца. И если этот указ был каким-то образом приятен христианству, то само христианство было не в лучшем состоянии, если оно приняло этот указ с радостью. В лучшем случае это христианство уже представляло собой язычество в христианских одеждах. Между прочим, так оно и было.
Такова эта заповедь, и её источник, которые вполне серьёзно навязываются вместо святой заповеди живого Бога, данной Его же громким голосом, который потряс землю, и дважды написанной Его собственным перстом на вечном камне. Таков этот день, вместе с его требованиями, который по чьим-то предположениям должен заменить день, наделённый высшими и вечными полномочиями и поддержкой Божества – день, в который сам Бог покоился, который Он благословил, который Он освятил, и который он ясно повелел нам соблюдать, говоря: «Помни день субботний, чтобы святить его. Седьмой день – суббота Господа Бога твоего . В оный не делай никакого дела ». К соблюдению седьмого дня мы на основании слова Божьего и призываем каждого искреннего человека.
Но если бы мы не имели никаких аргументов, кроме данных в этом сочинении, оценённом в пятьсот долларов, или всех остальных аргументов в пользу соблюдения воскресенья, мы должны были бы устыдиться брать в руку перо, чтобы высказываться в защиту этого дня.
Глава 9
Отцы, и тому подобное
Как мы уже увидели, автор «Вечной субботы» заполняет пустоту и молчание Нового Завета о соблюдении воскресенья языческим указом Константина о частичном соблюдении воскресенья в своих рассуждениях о заповеди и правилах на эту тему. Тем не менее, его система доказательств не была бы полной без «одобрения отцов». Поэтому, как и свойственно защитникам соблюдения воскресенья, он уделяет отцам, советам, папе и католическим святым большое место в своём пятисотдолларовом сочинении о соблюдении воскресенья.
Мы уже цитировали ранее одно из правил, установленных почтенным доктором Левием Филетисом Добсом, правил доказательства чего-либо, не имея ничего существенного для доказательства, и увидели иллюстрацию этого приёма в «Вечной субботе». Здесь же мы представляем вам ещё один пример использования этого приёма. В аргументах мистера Элиота об отцах церкви наши читатели могут увидеть его применение.
Доктор Доббс говорит:
«Я считаю забавным использование авторитета отцов как чего-то целостного и наилучшего для любого, кто оказался в ситуации, которую мы рассматриваем. Преимуществ у такого подхода два: Во- первых, они являются хорошей поддержкой общепринятого мнения, а во-вторых, «у отцов» вы можете найти всё, что угодно. Думаю, что не бывает такого глупого и абсурдного мнения, поддержку которому нельзя найти на страницах этих бывалых старцев. И для среднего ума одно абсурдное мнение так же приемлемо, как и другое, противоречащее ему. Если даже случается, что ваша точка зрения никогда не рассматривалась «отцами», вы можете с лёгкостью доказать, что они заняли бы вашу сторону, если бы только подумали на данную тему. И если вдруг вы не найдёте там ничего даже отдалённого напоминающего доказательство вашего аргумента, не отчаивайтесь; возьмите любую из громких цитат, присвойте ему авторство «отцов», и используйте его с победоносной решимостью; этот приём будет так же эффективен, поскольку девять из десяти человек не удосужатся спросить о происхождении этой цитаты и её отношении к делу. Да, брат мой, «отцы» - это ваша крепость. Это лучший подарок небес для тех, кто не может подтвердить свой взгляд ничем иным» (смотри приложение).
Первый из отцов, на которого ссылается мистер Элиот – это Клемент Римский, почивший по словам автора около 100-го года. Автор цитирует один отрывок у Клемента, не говорящий ничего о каком-т конкретном дне, не говоря о том, чтобы называть воскресенье днём Господним, или «вечной субботой», но об этом отрывке автор «вечной субботы» говорит:
«Этот отрывок не ссылается на день Господень, но последовательно доказывает существование в то время предопределённых времён поклонения, называя их установлениями самого Спасителя» (стр. 214).
Но несмотря на то, что здесь не упоминается никакой день, автор считает это важной связующей частью аргумента, доказывающего, что воскресенье – это день Господень, и обязан соблюдаться всегда.
Аргумент, в котором такая цитата считается важной связующей частью, необходимо изучать очень долго и скрупулёзно, чтобы найти там некую связь, соединяющую одно с другим.
Следующая цитата автора не лучше прежней. На этот раз он предлагает рассмотреть слова Игнатия, о которых он пишет:
«Данный абзац непонятен, и текст, без сомнения, повреждён, но направление этого высказывания не является неопределённым» (стр. 215, сноска).
Создаётся впечатление, что установление, которое необходимо доказывать аргументом, который зависит о некоей направленности мысли, взятой из непонятного отрывка, в повреждённом тексте, определённо имеет самое подозрительное происхождение. Он говорит правду, заявляя о том, что аргумент может вполне обойтись и без этой цитаты, но он считает важным посвятить более целой страницы своей книги её рассмотрению. Он также отмечает, что мы ещё никогда не видел и не слышали подробного аргумента в пользу воскресенья, которого было бы достаточно самого по себе. Его следующая цитата – из трудов приблизительно той же ценности, что и текст Игнатия. Он пишет:
«Мы здесь желаем привести цитату из так называемого послания Варнавы… Внешние свидетельства авторства этого труда были бы достаточно убедительными, если бы внутреннее содержание не бросало тень на его происхождение» (стр. 216, 217, сноска).
Другими словами, мы бы могли считать это послание истинным, если бы само послание не опровергало этот взгляд. И как будто бы для того, чтобы усилить сомнения в его истинности, автор добавляет: «Существует очень тесная связь между этим трудом и «Учением двенадцати апостолов».
На данное учение он ссылается в своей полной сомнений фразе «Если оно истинно». Давайте же посмотрим, чего стоит это учение. Нам даже не нужно ничего читать, кроме самого документа, чтобы открыть его суть перед всеми людьми, которые хоть немного понимают в правах частной собственности. Мы показываем, что этот документ под названием «Учение апостолов», ясно учит воровству и оправдывает его. Доказательство: В главе первой мы находим такие слова: «Если нуждается возьмёт чужое, он будет невиновным». Чтобы убедиться в том, что речь идёт о воровстве, мы прочтём далее: «Но тот, кто не нуждается, даст отчёт о том, что он взял и где он взял, и, будучи в узах (в заключении), будет отвечать за то, что он сделал, и не выйдет оттуда, пока не отдаст весь долг. Согласно этого драгоценного документа, все те, кто не имеет желаемого, считаются «нуждающимися». Такой человек, «если и возьмёт, будет невиновным». Если, к примеру, человек очень нуждается в перемене одежд, он может взять у кого-то одежду, и быть невиновным. Другой может нуждаться в лошади. Он может взять лошадь, и будет невиновным. Третий может нуждаться в хлебе . Он может взять мешок муки , и будет невиновным . И так далее, по всему списку необходимого. Все социалисты, коммунисты, нигилисты и анархисты могут вместе радоваться и восклицать от восторга, бросать свои шапки вверх, читая это «Учение апостолов», этот изумительный и роскошный подарок всем ворам и подлецам!
Хорошо, что мистер Элиот добавил к ссылке на этот документ примечание «если он истинен». Но зачем ему вообще использовать и читать этот документ, давая ему такую квалификацию? Разве он не знает, что этот документ не может быть истинным учением апостолов? Он, конечно, знает, но в этом «драгоценном» документе есть одна фраза, которую он желает использовать в поддержке воскресного дня как дня Господнего, и эта благословенная цель освящает и оправдывает все средства, вплоть до одобрения воровства. И между так называемым «Посланием Варнавы» и этим документом существует очень тесная связь. Мы в этом нисколько не сомневаемся. Но любой из этих документов не имеет никакого отношения к истинному учению апостолов. Учение апостолов совсем не таково. Однако мы видим, насколько деградирует христианство наших дней, если оно принимает с такой радостью, и одобряет с таким воодушевлением в качестве истинного учение Духа Божьего то, что вызывает стыд даже у обычных людей.
Затем, после упоминания о письме Плиния в Трою, о мученике Джастине, о Мелито, об «Учении», об Иренее, он доходит до Клемента Александрийского, о котором он говорит следующее:
«Клемент Александрийский (194-й год после Р.Х.) в мистическом объяснении четвёртой заповеди, среди фантастических объяснений о религиозном значении чисел, опускается вниз с высокого полёта своей духовной арифметики, чтобы сказать нам: седьмой день из закона уступил место восьмому дню из евангелия… Никто, конечно, не осмеливается развивать суть сказанного в его далеко идущих последствиях слов старого доброго полу-гностического «отца»; но опираясь на это свидетельство, можно с его помощью утверждать о том, что первый день недели занимал то же самое место в умах церкви того времени, которое и седьмой день занимал в системе иудаизма» (стр. 223).
Вот так, не зависимо от мистических выкладок, от туманных и эфемерных толкований, от непостижимых и неслыханных смыслов, которые только могут быть заложены в этих документах, все они как один помогают установить языческий обряд соблюдения воскресенья на месте дня, объявленного самим Творцом неба и земли раз и навсегда святым, и обязательным для соблюдения во веки.
Ещё одним свидетельством он завершает экскурс во второе столетие. Здесь тоже самым изощрённым образом сказано следующее:
«Это столетие будет завершено упоминанием самого яркого и необузданного из всех ранних христианских авторов (периода предшествующего Никейскому собору), Тертуллиана Карфагенского… Этот неистовый автор удачно завершает свой список доказательств почётного места, занимаемого днём Господним в первые два столетия христианской церкви» (стр. 223, 224).
Очень удачно этот горячий и самый необузданный автор завершает список цитат первых двух столетий. Но что это за список! Он предоставляет нам десять свидетелей в доказательство того, что воскресенье – это день Господень, и что он соблюдался как таковой в первые два столетия, и своими собственными словами он показывает, что первый из свидетелей не упоминает этого дня вовсе, второй представляет собой туманный отрывок неясного и испорченного текста, третий сомнителен, четвёртый не упоминает конкретный день, говоря о дне в общем, пятый называет этот день его языческим именем, седьмой – из сомнительного источника, который учит людей красть, если они нуждаются; девятый настолько мистичен, настолько затуманен, что никто не может сказать, какое значение и суть скрывается в этих словах; десятый назван самым ярким и эксцентричным из всех (не имеющим конкретики, развивающим демагогию без всякой точной сути), и этот неистовый автор – мы не удивляемся тому, что Дин Мильман называет его «горячим африканцем» - этот свидетель «удачно» завершает данный список доказательств того места, которое занимает день Господень в первые два столетия! Мы тоже с этим согласны . Но что же на самом деле доказывают эти « свидетельства »? Они показывают истинную цену всех этих попыток возвеличить «воскресную субботу», а также цену самой этой «субботы». Эта цена равна нулю. Однако эти доказательства – единственные из всех, которые можно привести. Какими бы ничтожными, туманными, сомнительными и недостойными доверия они ни были, их необходимо было привести, иначе институт воскресенья вообще не имел бы под собой никакого основания и потерпел бы полное фиаско. Но будет ли это фиаско меньшим или ещё большим от данных попыток и данных доказательств – пусть читатель решает сам. Такова немалая часть аргументов в поддержку соблюдения воскресенья, которую оценили достойной приза в пятьсот долларов! Мы бы хотели взглянуть на те аргументы по данному вопросу, которые данный комитет, назначивший приз, считал бы ничего не значащими.
После этого массива пятисотдолларовых свидетелей в пользу воскресного дня, мы надеемся, что наши читатели не осудят нас в решении опустить перечисление остальных свидетельств этого списка, состоящего из записей Оригена, Атаназиуса, Теодосиуса Великого, и императора Лео Трация, целого ряда католических святых, таких как Хилари, Амбросий, Августин, Хрисостом златоуст, и даже Джером Бесчестный (Мошеим, том 4, часть 2, глава 2, предпоследний абзац); на соборах в Нике, Сардика, Гангра, Антиохи, Толедо Первом, Картаже Четвёртом, и в Лаодикии, и так далее вплоть до синода в Дорте, и Вестминстерского собора.
Всё же эта работа по разделению его темы была бы неполной, и не соответствовала бы его методу полноты аргументов, если бы он не повернулся и не перевернул всё вверх дном. Поэтому он сам разрушает всю логичность с таким трудом созданной им системы доказательств. Среди опасностей, угрожающих сегодня институту воскресенья в наши дни он называет следующее: «Опасно заменять мнением церкви основание Священного Писания. Говорить о дне Господнем только как о церковном постановлении означает не предоставлять никаких оснований и нравственных причин, и не возлагать никакого обязательства на свободную совесть людей. Церковь не может утверждать это установление своими собственными указами. Соборы, советы, съезды, и синоды могут возложить обязательство закона Божьего на совесть только когда они могут подтвердить своё решение словами «Так говорит Господь» (стр. 263).
Единственный авторитет, который автор «Вечной субботы» привёл в поддержку «воскресной субботы» - это авторитет церкви. Единственное средство, посредством которого он назвал этот день обязательным для соблюдения, представляет собой религиозное соглашение христианской церкви (стр. 203). Единственные декреты, представленные им, представляют собой языческие декреты Константина, дополнительные указы Константина и Теодора Великого, и декрет императора Лео Трациана. Только эти источники вместе с решениями советов, собраний, съездов, соборов и синодов, он использует для обретения авторитета в наложении обязательств на совесть соблюдать воскресенье как постановление закона. Он не предоставил ни одного аргумента «Так говорит Господь» ни в пользу воскресения, ни в пользу его соблюдения; наоборот, он признал полное молчание Нового Завета в отношении любой заповеди или правил установления или соблюдения воскресенья. Поэтому, с помощью своих же аргументов, он доказал, что соблюдение воскресенья в качестве субботы не является обязательством, лежащим на свободной совести. И это правда.
Глава 10
Изменение дня
Под названием «Изменение дня» автор «Вечной субботы» посвящает целую главу отрицанию права седьмого дня называться субботой; и начинает он с попытки провести различие между субботой как установлением и субботой как названием дня. Он говорит:
«Нужно уяснить, что суббота как установление и суббота как название дня – совершенно разные вещи» (стр. 201). Эту идею довольно часто воспринимают как аксиому те, кто отвергает седьмой день как субботу, но мы хотели бы, чтобы все признающие это отличие, описали бы то, что они называют «установлением». Мы бы хотели, чтобы они сказали, что же такое суббота, описали, как это установление было создано, и как оно может соблюдаться в отрыве от дня. Ведь мистер Элиот пишет: «Конкретный день не является существенной частью этого установления» (стр. 203).
Если конкретный день не является существенной частью этого установления, то из этого следует, что данное установление может соблюдаться без всякого упоминания какого-либо дня. Поэтому мы просили бы мистера Элиота или кого-то другого, считающего это утверждение верным, сказать нам, как это возможно. Но мистер Элиот на самом деле сам не верит в своё предположение, как и любой другой, кто об этом заявляет. В его же аргументе в пользу этого предположения (что конкретный день не является существенной частью этого установления), мистер Элиот пишет:
«Без сомнений, духовное назначение субботы не сможет полностью воплотиться, пока все люди не объединятся в выборе одного и того же дня» (стр. 203).
К чему же автор приходит в своих выводах? К тому, что конкретный день не является существенной частью этого установления, однако само установление не сможет надлежащим образом соблюдаться, пока все не объединятся в выборе конкретного дня. Другими словами, конкретный день всё-таки является существенной частью этого установления. Именно к этому тупику приходят все, кто принимает данное предположение.
Более того, мало будет сказать, что день является существенной частью этого установления. День и является этим установлением, а не установление днём. Если этот конкретный день будет изъят, то и само установление будет тем самым уничтожено. Заповедь Божья не гласит: «Помни субботний покой, чтобы святить его», и не гласит: «Помни субботу» как некий неопределённый день. Заповедь ясна как день: «Помни день субботний, чтобы святить его» (Исход 208). Слово Божье говорит не о том, что Бог благословил только сам «субботний покой», и освятил его. Это слово гласит: «И благословил Господь день субботний, и освятил его» (Исход 20:11).
Человеку не оставлено никакого выбора назначать и считать какой-либо день субботой. Господь не только велит людям помнить день субботний, чтобы святить его, но также и говорит им настолько ясно, насколько только человеческий язык может выражаться, что субботой является седьмой день недели. Именно седьмой день недели Бог благословил во время сотворения мира. Именно седьмой день Он затем освятил. Именно в седьмой день Он покоился (Бытие 22:3). И этот покой, благословение и освящение седьмого дня сделало это установление субботой. Когда Бог написал на каменных скрижалях выражение «седьмой день суббота», Он констатировал тот факт, что седьмой день – это суббота. На вопрос «Что такое суббота?» слово Божье как основание истины даёт единственный истинный ответ: «Суббота – это седьмой день». Поэтому, предельно ясным языком нам показано, что в отрыве от седьмого дня не может быть ни субботы, ни так называемого «субботнего установления».
Опять же, слово «суббота» означает покой.
С этим мистер Элиот соглашается, говоря: «Слово «суббота», используемое в четвёртой заповеди, означает «покой». Оно представляет собой форму глагола, применяемого в книгах Бытие (22:3), и Исход (31:17), в описании того, как Бог покоился после творения мира» (стр. 202).
Но Бог не благословлял сам покой; Он благословил день покоя. Он не освящал сам покой; Он освятил день покоя. И днём этого покоя был седьмой день, последний день недели. И Он покоился в этот седьмой день от всех дел Своих, которые Он делал. «И Бог благословил седьмой день, и освятил его; ибо в оный Он покоился от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал». Покоился ли Бог в какой-либо другой день недели, кроме седьмого? Конечно , нет . Так разве не седьмой день является днём Божьего покоя ? Конечно, седьмой. В таком случае любой, кто называет субботой любой другой день, кроме седьмого дня, - последнего дня недели – этот человек не только противоречит ясному слову Божьему, но также противоречит и самому определению, исходящему из Его уст, потому что он приписывает и прикрепляет Божий покой к тому дню, который совершенно не предназначен для того, чтобы этот покой праздновать.
Слово Божье – это истина, и Он говорит: «Седьмой день – суббота покоя Господа Бога твоего; в оный не делай никакого дела». Но, несмотря на Его собственные слова из книг Бытие (22:3), и Исход (31:17), автор «Вечной субботы» уверенно пишет следующее: «Как человеческий памятник этот конкретный день имеет ценность, но он не имеет никакой значимости в том божественном назначении покоя и поклонения, который приходит к нам от вечности и снова соединяется с ним в конце времён» (стр. 203).
Как человеческий памятник? Как же тот конкретный день – седьмой день – стал человеческим памятником в книге Бытие (22:3)? Какое человеческое существо имеет хоть малейшее отношение к учреждению этого памятника? Этот памятник установлен исключительно Богом, а если какое-то установление дано самим Господом, разве его можно называть человеческим памятником? Насколько же далеко пятисотдолларовый приз может увести человека в его аргументах! И снова, «конкретный день не имеет никакой сути в божественном постановлении, которое приходит к нам от вечности». И это сказано при всём при том, что конкретный день и является этим божественным постановлением. Если конкретный день не имеет никакой связи с этим божественным постановлением покоя и поклонения, которое приходит к нам из вечности, тогда что же является этим постановлением, и как оно может соблюдаться? Это снова приводит автора к неизбежному выводу о том, что люди должны объединиться в почитании одного дня, иначе суббота не сможет должным образом исполняться. Но мы должны спросить: «Разве Господь не знал об этом, когда создавал субботу? Разве Он не знал, что необходимо, чтобы все люди объединились вокруг одного дня? Мы уверены, что знал, и притом предусмотрел всё это. Он Сам избрал день, который должен быть субботой. Он покоился в определённый конкретный день, благословил этот день, и отделил его от всех остальных дней недели, и повелел человеку, или человечеству, помнить этот день, и не работать в этот день. Этим днём является последний день недели, седьмой день, а не первый день недели. Но день, который Господь избрал в качестве субботы, день, который Он почтил Своим покоем, день, который Он своими же словами и делами отделил от всех остальных дней, день, который Он своим собственным голосом с небес повелел святить, день, который Он назвал Своим – этот день желают отставить в сторону как нечто незначительное, а языческое постановление, установленное властью языческого поклонения, возвеличить до положения дня Господнего, до предельно важного дня. Но это и есть беззаконие.
Как и большинство людей, соблюдающих воскресенье, автор «Вечной субботы» с большим трудом справляется с вопросом конкретного дня, когда речь заходит о субботе Господней, или о седьмом дне. Не меньшую сложность у него вызывает и разговор о первом дне недели. Он спрашивает: «Когда этот день начинается и заканчивается? Неужели мы должны, как в первых главах книги Бытие, называть этот день «вечером и утром», и отсчитывать его от захода до захода, как это делали пуритане, вместо того, чтобы отсчитывать его как цивилизованные люди, от полуночи до полуночи?» (стр. 204 ) .
Те, кто признаёт за словом Божьим хоть какой-то авторитет, будет считать день, определённый в первой главе книги Бытие, достаточным основанием, и будет отсчитывать его так, как это делает Библия, и как упомянул мистер Элиот, то есть от захода до захода. Но те, кто избирает языческое постановление – воскресенье – вместо постановления Божьего – субботнего дня – будут отсчитывать эти сутки, как и все остальные язычники – от полуночи до полуночи. Ничто так ясно не отмечает языческое происхождение воскресенья и языческого авторитета в его соблюдении, как отсчитывание этого дня от полуночи до полуночи. Если бы религиозное соблюдение воскресенья было обрядом апостолов, или подтверждалось каким-либо авторитетом Бога, оно бы соблюдалось и отсчитывалось так, как об этом говорит Библия – от захода до захода. Но вместо этого постановление воскресенья свидетельствует о своём Римско- языческом происхождении даже в этих деталях. Рим с самого начала отсчитывал этот день от полуночи до полуночи. Воскресенье было великим языческим праздником римской империи. С тех пор, как под действием «тайны беззакония» и указа языческого императора Константина, его политического лицемерного обращения в христианство, этот день солнца, праздник всех языческих времён, стал великим днём папского Рима, оставаясь по сути тем же языческим праздником, с тех пор он и продолжает оставаться таким же. Как бы ни приукрашивали этот день протестанты, как бы они ни называли его христианской субботой, днём Господним, факт остаётся фактом: Господь никогда не называл этот день Своим днём, этот день не имеет никакой особой связи с субботой или христианством, ибо Господь никогда не покоился в этот день, и Христос никогда не давал ни малейшего намёка в отношении этого дня. Этот день целиком основан на человеческом авторитете и языческом происхождении.
Но автор продолжает:
«Принимая в внимание слабость человеческого понимания, которое будоражилось восемнадцать столетий духовных исканий относительно конкретного дня, достойного почитания, данный вопрос будет рассмотрен честно и последовательно» (стр. 205).
Будем помнить о том, что автор пообещал рассматривать этот вопрос честно. Но предположение, с которого он начинает исполнять это обещание, звучит так:
«Не существует никаких возможностей фиксировать день первозданной субботы».
Давайте посмотрим сами. Писание говорит, что в конце шести дней творения Бог покоился в седьмой день от всех дел Своих, которые он творил, что Он благословил седьмой день, и освятил его, потому что в этот день Он покоился (Бытие 22:3). В четвёртой заповеди Бог изрёк и записал заповедь с прямой ссылкой на день, в который Он покоился от дел творения, и указывал на этот день как на тот день, в который люди должны покоиться, говоря: «День седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай в оный никакого дела… Ибо (потому что) в шесть дней Господь сотворил небо и землю, море и всё, что в них, а в день седьмой почил; поэтому (по этой причине) Господь благословил день субботний, и освятил его. Поэтому ничего не может быть яснее, чем тот факт, что Бог в четвёртой заповеди указал на конкретный день «первозданной субботы». Слово Божье также говорит о том, что в этот день, когда Спаситель лежал в могиле, Его ученики покоились в день субботний «согласно заповеди» (Луки 23:56). Субботний день «согласно заповеди» - это день первозданной субботы. Когда эти последователи Господа покоились в субботний день «согласно заповеди», они покоились в день «первозданной субботы». Поэтому день «первозданной субботы» показан в слове Божьем как день, который следовал за распятием Спасителя. Это же слово Божье объявляет, что день, который следовал за этим днём «первозданной субботы» был первым днём недели. Мистер Элиот без всяких затруднений «фиксирует» первый день недели в качестве субботы, говоря о нём, как о днё воскресения Спасителя. Но день «первозданной субботы» является днём, который предшествует первому дню недели. Поэтому, если мистер Элиот не только находит это возможным, но и с лёгкостью фиксирует первый день недели как субботу, то почему же нельзя «зафиксировать», или связать день «первозданной субботы» с днём, предшествующим первому дню недели, если так говорит Писание? Но наш автор продолжает настаивать на этом предположении, и вот как он начинает:
«Кто может сказать, в какой день недели был сотворён первый человек?»
Следует ли нам воспринимать всерьёз сказанное мистером Элиотом, и согласиться с тем, что он не знает, в какой день недели был сотворён первый человек? Совсем нет, ибо через восемь строчек обсуждения этого вопроса он сам называет нам день, в который человек начал своё существование. Он говорит:
«Однако, ради всех буквалистов, которые всё ещё верят в то, что творение мира началось вечером в воскресенье, и закончилось в пятницу на заходе солнца, мы выскажем предположение, что седьмой день творения был первым днём существования человека.
Дорогой читатель, вы сами видите, что автор знает день недели, который был сотворён первый человек. Поскольку по его словам седьмой день недели был первым днём существования человека, из этого неизбежно следует, что человек был сотворён в седьмой день, если, конечно, автор не будет утверждать, что человек был сотворён в один день, но не существовал до наступления следующего. Но разве кто-либо слышал когда- либо о седьмом дне творения? Нам трудно представить себе, где можно было почерпнуть такую информацию, но не в Библии – это точно. Ибо Библия повествует только о шести днях творения. Первая глава книги Бытие предоставляет нам запись о шести днях творения. А в четвёртой заповеди Бог сам объявляет: «В шесть дней создал Господь небо и землю, море, и всё, что в них. Библия ясно говорит о том, что человек был создан в шестой день. Но мистер Элиот говорит о семи днях творения, и седьмой день творения называет первым днём существования человека! Какие неожиданные повороты можно найти в сочинениях стоимостью в пятьсот долларов! Оно приносит такие крупные дивиденды бессмыслицы при таких малых вложениях мудрости! Да, именно такой вывод делает мистер Элиот, исходя из своих аргументов. Вот что он пишет:
«Если бы он (человек) начал отсчёт недели от того времени, и соблюдал эту же субботу вместе со своим Творцом, тогда именно первый день недели, а не седьмой, был бы первоначальной субботой патриархов. Если предельно точный и слепой буквализм был бы правилом нашего толкования, то мы должны были бы следовать ему до конца, куда бы он нас ни завёл» (стр. 206).
Мы только добавим, что если бы предельно точная и слепая глупость должны была выражаться в поддержку аргумента о «воскресной субботе», тогда это сочинение воистину удостоилось бы пятисотдолларового приза, который оно получило. Это единственный ответ, который мы можем дать на этот аргумент, ибо автор сам знает, что этот аргумент не имеет смысла. Более того, автор чувствует необходимость в извинениях за этот аргумент, что он и делает, говоря: «Это предположение сделано не ради какой-либо ценности, которое оно само в себе имеет, но в качестве честной иллюстрации сложностей, сопровождающих каждую попытку зафиксировать день».
Но разве это можно назвать честной иллюстрацией? Конечно, нет. Мы равно убеждены в том, что если бы честный подход применялся для подтверждения дня, который сам Бог зафиксировал как день «первозданной» и единственной субботы Господней, то в любом случае, для доказательства не потребовалось бы и сотой доли тех усилий, которые автор применяет в данном пятисотдолларовом сочинении, полном противоречий, чтобы доказать, что воскресенье – это суббота.
Но зачем говорить об изменении субботы? Пока творение Божье продолжает своё существование, изменение субботы невозможно. И даже если этот мир прекратит своё существование и уступит место новой земле, даже в этом случае будет невозможно изменить субботу на первый день недели.
Давайте немного углубимся в этот вопрос. Суббота означает покой. Субботний день означает день покоя; и Бог покоился в седьмой день от всех дел Своих (Евреям 4:4). Поэтому, если седьмой день является днём, в который покоился сам Бог, то только этот день может быть днём покоя. Бог не покоился больше ни в какой другой день недели, и поэтому никакой другой день недели не может быть днём покоя. И пока факт остаётся фактом о том, что Бог покоился в седьмой день от всех дел Своих, так долго седьмой день будет оставаться субботой. Это и открывает абсолютную абсурдность такой распространённой идеи, о которой так много говорят, печатают, и аргументируют - а именно, идеи о том, что суббота была изменена. Говорить о реальном изменении субботы означает говорить о том, что покой Бога был изменён, или перенесён с дня, в который Он покоился, на день, в который Он не покоился. Другими словами, это означает говорить, что Господь покоился в день, в который Он вовсе не покоился. Но это невозможно даже для Господа, ибо называть днём покоя день, в который Он трудился, означает говорить ложь, а Бог не может лгать.
Седьмой день, суббота Господня, утверждается на фактах, а изменить факты невозможно. Слово факт произошло от слова « фактум ». Это слово означает « то , что сделано ». Когда что-то уже сделано, это дело остаётся фактом на всю вечность. Всю вечность это сделанное дело остаётся сделанным . Его можно исправить , но факт остаётся фактом – оно было сделано . Никакая сила во вселенной не в состоянии изменить факт. Факт же заключается в том, что в шесть дней Бог создал небо и землю, и всё, что в них. Этот факт никогда не перестанет быть фактом. Эта земля может снова превратиться в хаос, но факт того, что Бог сотворил её в шесть дней, останется фактом. То, что Бог трудился все эти шесть дней, тоже останется фактом. Пока этот созданный за шесть дней мир существует, будет невозможно назвать ни один из этих шести дней субботой, или днём покоя, потому что факто остаётся фактом – Господь трудился, и мы повторимся: Господь не может назвать субботой ни один из тех дней, в который Он трудился. Фактом является и то, что Бог покоился в седьмой день. Этот факт никогда не перестанет быть правдой. Даже если всё это творение, созданное Богом, будет стёрто с лица вселенной, факт того, что Бог покоился в седьмой день, останется фактом. И пока существует мир, будет существовать и истина о том, что седьмой день является днём покоя, субботой Творца. Ни один другой день не может быть этим днём. Поэтому, видя простую, элементарную истину о том, что седьмой день недели, и только седьмой день недели является субботой Господней, мы видим, что пока мир существует, эта истина не может быть изменена.
Так или иначе, существует только один из возможных способов изменения субботы. Этот способ, как выразился Александр Кемпбел, заключается в том, чтобы творение мира состоялось заново. Мы рассмотрим предположение мистера Кемпбела о том, что творение должно состояться заново с целью изменения субботы. Предположим, что всё творение опять превратилось в хаос. Творя этот мир заново, Господь, конечно, потратит на это столько же дней, сколько прошло до того дня, который он решил сделать субботой. Если бы Ему пришлось потратить на сотворение мира девять дней, и покоиться в десятый день, тогда каждый десятый день был бы субботой. Или если бы Он потратил на это восемь дней или семь дней, и покоился соответственно в девятый или в восьмой день, то каждый девятый или соответственно, восьмой день был бы субботой. Если бы он потратил на сотворения пять дней и покоился в шестой, то каждый шестой день был бы субботой. В случае с четырьмя днями творения каждый пятый, с тремя – каждый четвёртый, с двумя – каждый третий, с одним – каждый второй день был бы субботой.
Предположим, что первым днём творения была бы суббота. Разве такое возможно ? Нет , конечно . Даже если бы весь мир был создан за один день, то этот первый день творения просто не мог бы быть днём покоя. Поэтому день покоя, или суббота, могла бы быть только вторым, но никак не первым днём. Первый день не может одновременно быть и рабочим днём, и днём покоя. Даже если только часть этого дня была бы потрачена на работу, этот день уже потеряет всякую возможность называться днём покоя.
Итак, гипотеза нового творения, если на ней основываться, в принципе, может привести к возможности изменения субботы. Но даже в этой гипотезе никак не возможно, чтобы суббота изменилась с седьмого дня недели на первый день недели.
Люди часто и воодушевлённо говорят об изменении субботы, не придавая значения тому, что несёт собой эта идея, не задумываясь о том, что небо и земля должны превратиться в хаос, чтобы такое произошло. Сам Христос сказал о том, что «скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта из закона пропадет», и «доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет из закона». В пророчестве об этой попытке человека греха изменить субботу, сказано не о том, что он изменит закон, а о том, что он «возмечтает» изменить времена и закон Всевышнего. Этого и следует ожидать от той системы, которая возвышается и возвеличивается над самим Богом (2-е Фессалоникийцам 23:4); и характеру этой системы власти, которая возмечтала изменить субботу Господню, свойственно то, что она избрала тот самый день – первый день – на который невозможно даже самому Господу сменить субботу.
Настало время нам оставить в покое сочинение мистера Элиота. Продолжать исследовать его труд будет значить увеличивать коллекцию бессмысленных аргументов. В завершение мы просто повторим вышесказанные выводы. Принимая во внимание тот факт, что комитет назначения приза избрал это сочинение достойным пятисотдолларовой награды, мы бы хотели знать, какое же сочинение на эту тему данный комитет посчитал бы совершенно никчемным. Если это сочинение можно назвать одним из лучших аргументов в пользу «воскресной субботы» (а это действительно так, ввиду того, что оно удостоено данной награды, а значит и одобрения общества «Американ тракт») тогда воскресенье как религиозный день сам по себе ничего не значит. Если бы мы не имели более веских причин призывать людей к соблюдению субботы Господней – седьмого дня – чем те, которые даны в данном сочинении в пользу воскресенья, то мы должны были бы устыдиться даже того, чтобы упоминать перед кем-то о соблюдении седьмого дня. Но мы просто делаем выбор повиноваться слову Божьему, а не слову человеческому. Мы делаем выбор покоиться в тот день, в который Он сам повелел нам покоиться. Мы делаем выбор святить тот день, который Он сам освятил. Мы делаем выбор соблюдать тот день, который Он отделил, и который Он повелел соблюдать всем людям.
Дорогой читатель. Бог покоился в седьмой день от всяких Своих трудов (Евреям 4:4). Какой выбор делаешь ты? Бог говорит тебе: «Помни день субботний, чтобы святить его» (Исход 20:8). Какой выбор делаешь ты ? Бог говорит: «Седьмой день – это суббота (покой) Господа Бога твоего. В оный не делай никакого дела» (Исход 20:10). Какой выбор делаешь ты ? Слово Божье – это истина . Все заповеди Его – истина (Псалтирь 118:151). Когда Бог что-то говорит, Его слово необходимо принимать как истину, и после этого нам ничего не остаётся, как только повиноваться этому слову, принимая его таким, каким оно нам дано. И в этом будет наша праведность, если мы будем стараться соблюдать все эти заповеди перед нашим Господом Богом, как Он повелел нам. Послушание – это ничто иное как исполнение того, что сказано Господом, точно так, как Господь сказал. Он говорит : « День седьмой – суббота Господу Богу твоему . В оный не делай никакого дела. Пренебрегать днём, который Бог повелел соблюдать – это непослушание. А вину непослушания невозможно смягчить ничем иным, даже заменой установленного Господом дня другим, хотя бы этот «другой день» и назывался христианским. Факт заключается в том, что седьмой день – суббота. И на грядущем суде вопрос будет звучать так: «Соблюдал ли ты этот день?» Бог сегодня призывает народ, который будет соблюдать заповеди Божьи и веру Иисуса. Ничто меньшее не будет достаточным. Ни одна заповедь, и ни один пример веры Иисуса не дают ни малейшего намёка на соблюдение воскресенья, первого дня недели. Как заповеди Божьи, так и вера Иисуса показывают нам вечное обязательство соблюдать седьмой день, субботу Господа Бога нашего. Будете ли вы послушны Богу? Будете ли вы соблюдать заповеди Божьи и веру Иисуса?
Приложение.
В ответ на пожелания мы включаем всё письмо доктора Доббса, с тем письмом, которое послужило его написанию.
Почтенному доктору Доббсу:
«Уважаемый брат. Я радуюсь, что в вас нашла своё прибежище мудрость, и что вы своего рода источник, к которому мы можем приходить со своими маленькими ведрами и ковшами, чтобы почерпнуть. Я теперь общественный оратор, учитель нравственности; одним словом, переходя к сути, я проповедник евангелия. Но у меня множество тревог. Главная из них заключается в следующем: Я часто склонен доказывать нечто, не имея ничего для доказательств. Что мне делать? Как мне доказать нечто, не имея никаких аргументов? Молю, помогите мне, и примите мою неиссякаемую благодарность. Всегда ваш слабый брат, с глубоким почтением».
Ответ
«Я рад сообщить, что посвятил много размышлений этому вопросу. Более того, в этом как раз и заключается способность настоящего гения. Любой человек, как бы к нему ни относилось божественное провидение, может доказать что угодно, имея достаточно доказательств. Но доказывать, не имея никаких доказательств – вот в чём настоящее мастерство. Мне часто приходилось этим заниматься. Скажу больше, это мой привычный метод.
Хороший способ – принимать желаемое за действительное. Если вы желаете доказать, что А – это Б, вы можете доказать это так:
«Все знают (кроме неверных и радикалов), что А – это Б. Поэтому мы и видим, что А – это Б, что и требовалось доказать».
Конечно, вы не должны так открыто и прямо высказываться перед аудиторией. Я предоставил вам саму схему. Вы же должны её одеть в красивые одежды.
Например, вы желаете доказать, что душа бессмертна. Вы должны доказывать это так:
1. Дух невозможно уничтожить.
2. Нематериальная часть человека не способна на гниение
3. Отсюда мы видим, что душа бессмертна.
В нужном применении, облаченный в красивые одежды красноречия, этот метод является одним из самых эффективных методов доказательства, известных мне. Другой же, почти такой же эффективный, заключается в доказательстве предпосылки посредством вывода с последующим доказательством вывода посредством предпосылки, то есть, доказать А исходя из Б, а затем доказать Б исходя из А. И если люди заранее будут склонны верить в вывод, который требуется доказать (или думать, что они верят в него, что в принципе одно и тоже), и если вы будете время от времени применять их любимые слова и формулировки, которые люди желают слышать, и при этом связывать это с общепринятым мнением, то вы тем самым можете снискать репутацию очень логичного оратора.
Доказывая что-либо ясно и последовательно, а затем умело предполагая, что вы уже доказали нечто другое, вы проявите высшее мастерство.
Так или иначе, я считаю смешным использование авторитета отцов как чего-то целостного и наилучшего для любого, кто оказался в ситуации, которую мы рассматриваем. Преимуществ у такого подхода два: Во-первых, они являются хорошей поддержкой общепринятого мнения, а во-вторых, «у отцов» вы можете найти всё, что угодно. Думаю, что не бывает такого глупого и абсурдного мнения, поддержку которому нельзя найти на страницах этих бывалых старцев. И для среднего ума одно абсурдное мнение так же приемлемо, как и другое, противоречащее ему. Если даже случается, что ваша точка зрения никогда не рассматривалась «отцами», вы можете с лёгкостью доказать, что они заняли бы вашу сторону, если бы только подумали на данную тему. И если вдруг вы не найдёте там ничего даже отдалённого напоминающего доказательство вашего аргумента, не отчаивайтесь; возьмите любую из громких цитат, присвойте ей авторство «отцов», и используйте её с победоносной решимостью; этот приём будет так же эффективен, поскольку девять из десяти человек не удосужатся спросить о происхождении этой цитаты и её отношении к делу. Да, брат мой, «отцы» - это ваша крепость. Это лучший подарок небес для тех, кто не может подтвердить свой взгляд ничем иным» (Национальный баптист, 7 марта 1878 года).